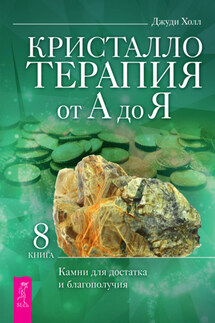Цивилистическая наука России: становление, функции, методология - страница 10
Отмечу, что само свойство системности науки поддерживается не всеми исследователями, что и понятно, с учетом того числа вопросов, которые такой подход вызывает. В. А. Томсинов специально подчеркивает, что «наукой может быть названа лишь системная совокупность знаний»[44], однако, например Р. Лукич, определяя науку в контексте выявления сущности правовой науки, отметил, что она представляет собой совокупность особых эмпирических суждений, отличающихся систематичностью, глубиной и специфическими методами их получения[45]. Как видим, здесь требование систематичности предъявляется не к науке, а к отдельным суждениям, при этом сами эти суждения образуют совокупность, именуемую наукой. То же родовое понятие («совокупность научных знаний») использует В. А. Белов[46], о том же пишет В. М. Сырых, который, определяя понятие юридической науки вообще, квалифицирует ее как совокупность знаний. В качестве совокупности знаний юридическую науку вообще и отраслевые науки в частности определяют довольно часто. В отличие от системы к совокупности не предъявляется столь строгих требований по составу и свойствам. Рассматривая цивилистическую науку как совокупность, а не систему знаний, с одной стороны, можно не искать единства между всеми научными идеями и концепциями, в том числе и антагонистическими по отношению друг к другу. Но, с другой стороны, отсутствие такого единства приводит к невозможности говорить о едином учении о гражданско-правовом регулировании отношений, как это делается в приведенном выше определении из учебника. Идея о единстве и системности науки коррелирует с упомянутой во введении настоящей монографии концепцией Т. Куна. Действительно, все исследования в рамках одной парадигмы связаны с достижениями, образующими ядро такой парадигмы в единое целое и в этом смысле могут рассматриваться как образующие систему. Вместе с тем, если пользоваться той же концепцией, одна парадигма не образует всей науки, а только одну ее часть, параллельно с которой образуются отклоняющиеся исследования, которые накапливаются и вызывают научные революции.
Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, связан с выделением предметной области цивилистической науки, которую предлагается обозначать через гражданско-правовое регулирование определенной сферы. Иначе говоря, предлагается связывать предмет науки с предметом законодательства. При этом вопрос о том, что такое гражданско-правовое регулирование, каковы его границы сам по себе является одним из тех, на который адекватного ответа пока еще найти не удалось. Правильно ли связывать предметную область цивилистической науки с усмотрением законодателя или отбор явлений, относящихся к предмету науки, имеет какие-то устойчивые критерии, а может быть, определяется исключительно произволом ученого? Гражданско-правовая наука исследует гражданско-правовые явления. Осталось определить, что же это за явления и каким образом они выбраны.
Третье, на что следует обратить внимание, есть указание на «рассмотрение их [явлений] в многообразии и в историческом развитии». Это наводит на мысль о признании в качестве одного из ключевых исторического метода. Вместе с тем необходимость и целесообразность рассмотрения гражданско-правового регулирования именно в историческом развитии нуждаются в обосновании и оценке.
И последнее обстоятельство, на которое стоит обратить внимание. В эту систему знания включены знания о средствах получения информации. Такое указание вызывает множество вопросов. Почему эта информация включается именно в цивилистическую науку, а не, скажем, в информатику?