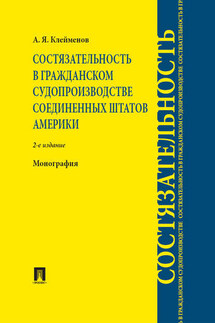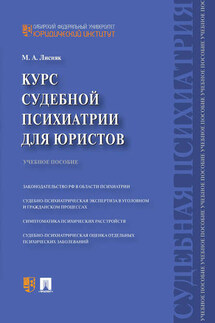Цивилистический процесс: вчера, сегодня, завтра. Liber Amicorum. В честь профессора И.В. Решетниковой - страница 22
Однако ВС РФ в своем постановлении Пленума от 11 декабря 2012 г. № 31 «О применении норм ГПК РФ при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» предпочел не уходить в своем толковании так далеко[68], подчеркнув, что судебное решение может быть пересмотрено в экстраординарном порядке, если в постановлении Президиума или Пленума ВС РФ, определившем (изменившем) практику применения правовой нормы, указано на возможность пересмотра по новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов, при вынесении которых правовая норма была применена судом иначе, чем указано в данном постановлении Президиума или Пленума ВС РФ. При этом следует иметь в виду, что пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в данном случае допускается, если в результате нового толкования правовых норм не ухудшается положение подчиненной (слабой) стороны в публичном правоотношении (sic)[69].
Словом, про гражданские правоотношения в названном постановлении Пленума ВС РФ не упоминается, хотя КС РФ говорил об этом: пересмотр вступивших в законную силу судебных актов на основании правовой позиции, впоследствии сформулированной в постановлении в постановлении Президиума либо Пленума ВС РФ относительно дел, вытекающих из гражданских правоотношений (пенсионных, жилищных, по предоставлению обеспечения в порядке обязательного социального страхования и др.[70]), вполне допустимо, если этого требуют интересы защиты неопределенного круга лиц или заведомо слабой стороны в правоотношении[71].
В дальнейшем, как показала практика, уточнения имели место быть касательно не принципа non reformatio in peius, а различных процедурных моментов, к примеру, по поводу того, можно ли обращаться с заявлением о пересмотре судебного решения по новым обстоятельствам, если в определении судебной коллегии ВС РФ, которое было вынесено в порядке кассационного производства, определено (изменено) смысловое содержание той или иной нормы, использованной в конкретном деле. В частности, об этом отрицательно высказался КС РФ в постановлении от 17 октября 2017 г. № 24-П «По делу о проверке конституционности п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ в связи с жалобами граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других»[72].
Вместе с тем было бы неправильным не отметить, что в этом же постановлении конституционные судьи еще раз обратили внимание законодателя на следующее: для того, чтобы исключить возможность преодоления правовой определенности, окончательности и неопровержимости вступившего в законную силу судебного акта без соблюдения установленных законом особых процессуальных условий его пересмотра, нужно вернуться к ранее сформулированной правовой позиции органа конституционного контроля в той части, которая затрагивает вопросы пересмотра по новым обстоятельствам судебного акта, обретшего законную силу, тогда когда речь идет о делах, возникающих из гражданских правоотношений, с учетом запрета на придание обратной силы толкованию правовых норм, ухудшающих положение физического или юридического лица.
Однако законодатель по-прежнему упускает из вида начало non reformatio in peius и прямо не закрепляет его в нормах процессуального закона, хотя очевидно, что в связи с проанализированными постановлениями КС РФ оно имплицитно по отношению к п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ и п. 5 ч. 1 ст. 350 КАС РФ, а также, по всей видимости, и КоАП РФ