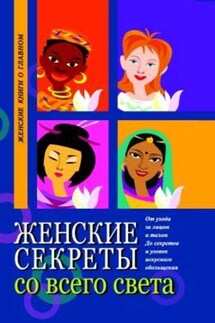Дальневосточная рапсодия. Москва – Владивосток и обратно. Дорога длиною в 10 лет - страница 2
Бесспорно, была в Москве и другая жизнь: попасть на премьеру в театр, например, было очень трудно, хотя мне казалось, что театры, консерватория, филармонические концерты в основном были забиты приезжими. В музеях бывало свободнее, там шумели многочисленные экскурсии школьников, а толпы приезжих, главным образом, женщин, ходили за зкскурсоводом с блокнотами в руках. Провинция, видимо, не сдавалась.
Еще одна черта бросилась в глаза в Москве – на улицах, в метро, на котором я ездил на работу, вызывало удивление количество людей в военной форме разного покроя и цвета. На моей «зеленой линии» – это были голубые погоны офицеров ВВС, толпами вываливающиеся на станции метро «Динамо» к стадиону. Здесь, на другой стороне Ленинградского проспекта, стоял, выстроенный в 50-е, громадный спортивный комплекс Советской Армии. Полтора десятка лет тому назад, в составе ватерпольной команды ОДО («Окружного Дома Офицеров» Белорусского военного округа), я участвовал в турнире по случаю открытия новенького, пятидесятиметрового бассейна ЦСКА. Но майоры и подполковники, составляющие большинство этих групп, не сворачивали к спортивным комплексам.
Вроде бы стало понятно, отчего здесь такое количество военных – район такой, район «готовых к труду и обороне», закрытых, военизированных НИИ, «ящиков»», СКБ. Появилось ощущение, что весь город, а может и вся страна опять готовится к следующей войне. Или все полковники и майоры этой громадной державы собрались в Москве на какое-то никому неведомое сборище?
Странное впечатление производила Москва в эти годы, взбудораженная прессой, радио и все более развивающимся телевидением, бесконечно предупреждающим нас о «происках», «зверином оскале», «враждебном окружении» со всех сторон света – слова, которые ничего для меня не означали и скорее раздражали. Тем более, что увидеть это «враждебное окружение» власти нам не давали, а «звериный оскал империализма» мы рассматривали на рисунках Кукрыниксов в журнале «Крокодил».
Вместе с тем, в новом для меня московском 1973 году, газеты зашумели о подписанном руководителями двух стран – СССР и США – «Договоре об ограничении систем противоракетной обороны» (ПРО-1). Вот короткая выдержка из газеты того времени – «исходя из того, что ядерная война имела бы для всего человечества опустошительные последствия, а также в целях смягчения международной напряженности и укреплению доверия между государствами».
Может быть, наконец-то, это военизированное насквозь государство стало поворачиваться к другому миру, другому будущему? Но, судя по обстановке в моем «ящике», оснований для таких надежд было мало. Начальство собирало всех сотрудников регулярно на «оповещения» о врагах вокруг нас, о бдительности и повышении трудовой дисциплины, о каком-то загадочном иностранном автомобиле, который якобы слишком часто стоял вблизи корпусов НИИ, о возможном прослушивании наших разговоров и т. д.
Москва 1973 года, ее улицы и серые массы людей, перетекающие из улиц на площади, с площадей на эскалаторы метро, из электричек всех девяти вокзалов в гулкие вокзальные пространства, этот гигантский муравейник не вызывал у меня положительных эмоций. Мне часто становилось не по себе на улицах этого города.
Как ни странно, но именно в моем сверхзакрытом «ящике», я неожиданно обнаружил прекрасную библиотеку – место для уединения и пищу для размышлений, несмотря на интенсивную работу под бдительным присмотром начальства всех уровней. Работа двигалась, удалось разработать принципиальную схему нового устройства, встроить свои волоконно-оптические преобразователи даже в головку самонаведения ракеты класса «воздух-земля», подготовить всю необходимую документацию и получить «авторское свидетельство». Немного озадачило при получении патента то, что кроме двух реальных исполнителей, меня и моего сотоварища, в авторах вдруг появилась группа людей, которых я и в глаза не видел. Не то, чтобы я отличался особенной наивностью, но бесцеремонность начальства озадачила. Ну, да, мы же «винтики», а начальство в этом заведении все еще ходит по привычке, как-будто в брюках с лампасами, даже если на них надета гражданская одежда, а при лампасах у них и ноги не сгибаются, как у обыкновенных людей. Что уж тут говорить о научной этике, сугубо цивильном изобретении…