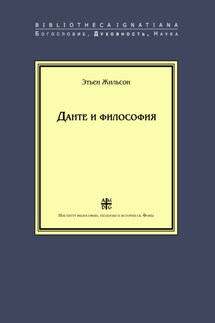Данте и философия - страница 2
Но допустим, мы согласимся со всем, что́ только что отрицали. Что это дает? Если есть только одно блаженство, и если это блаженство символизировать в образе вымышленного персонажа, ясно, что такой персонаж получит имя Беатриче, и никакой другой персонаж из фигурирующих в том же сочинении не будет носить этого имени. Но непонятно, почему другие персонажи той же книги не имеют права носить другие имена? Между тем именно с этим нас призывают согласиться в силу логики: дескать, «Беатриче» означает «блаженство», но существует только одно блаженство; значит, никто больше не может носить имен. Этот занятный паралогизм был бы необъясним, если бы не был абсолютно спонтанной защитной реакцией против возражений здравого смысла, не позволяющих себя заглушить. Вот книга, где фигурируют три Дамы: одна из них носит имя собственное, две другие безымянны. Если делать какие-либо догадки на этот счет, то в первую очередь будет естественным предположить, что Дама, обладающая именем, – реальная женщина, в отличие от двух других, которые суть чистые символы. Как только эта мысль приходит в голову, здравый смысл тотчас получает подкрепление от весомого позитивного довода: если бы Беатриче была просто символом, она мелькнула бы в творениях Данте лишь однажды, ибо в них нет ни одного другого надежного примера, когда чистый символ обозначался бы именем собственным. Разумеется, этот факт не доказывает с неопровержимостью существования Беатриче, но он наводит на мысль о нем; во всяком случае, вряд ли можно утверждать, что он указывает на обратный тезис – тот, который хотят с его помощью доказать.
За доводом о. Мандонне скрывается затаенная, но непоколебимая уверенность, что Беатриче есть чистый символ всего того, что доставляет человеку блаженство, – иначе говоря, символ «христианского откровения или, вернее, христианского сверхъестественного порядка во всей его конкретной реальности: в исторических фактах, учениях и культурной практике»[9]. Как видим, это довольно широкий символизм, который позднее позволит отождествить Беатриче с самыми разными вещами. Но, кроме того – и для нас это в настоящий момент важно, – это символизм, подсказывающий объяснение странного рассуждения, которое мы только что воспроизвели. Если Беатриче есть сама христианская жизнь в ее функции подательницы блаженства, и если две другие Дамы – Поэзия и Философия – претендуют на выполнение той же функции, они не имеют права носить это имя, так как не имеют права исполнять эту функцию. А поскольку они фигурируют в «Новой жизни» и в «Пире» именно как узурпаторши функций, обозначаемых именем Беатриче, они не только не имеют права носить имя той, которая эту функцию осуществляет, но вообще не имеют права носить какое-либо имя. Понятый таким образом, довод о. Мандонне, конечно, перестает быть паралогизмом; но дело в том, что такое понимание предполагает принятым тот самый тезис, который этим доводом должен быть доказан.
Независимо от того, какой тезис хочет обосновать историк, он сильно рискует, вступая на подобный путь. Если только счастливая интуиция не выведет его прямиком к истине, и все факты, все тексты не слетятся сами собой в поддержку его тезиса, словно голуби в голубятню, исходная ошибка роковым образом заставит его вступить в борьбу с первым же фактом или первым же текстом, из которой он сможет выпутаться, только прибегнув к новой, не менее произвольной гипотезе. Когда же эта вторая гипотеза столкнет его с другими фактами или другими текстами, понадобится третья гипотеза; и так до бесконечности. Дело в том, что историческая реальность имеет волокнистую структуру: в ней возможно продвигаться только по долевой нити; тот же, кто хочет идти по косой, вынужден рвать эту ткань.