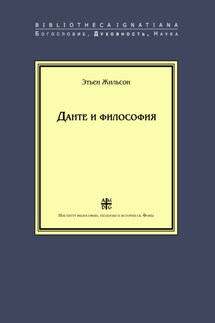Данте и философия - страница 7
Как видим, Данте не говорит здесь ни о теологии, ни о философии, будь то ради их объединения или противопоставления. Он никоим образом не подразумевает, что его угощение – иного рода, нежели ангельский хлеб, коим питаются ученые. Напротив, он прямо говорит, что его собственный пир будет устроен из объедков с того самого стола, за которым вкушается ангельский хлеб. Следовательно, он собирается угощать лишенных доли в познании той же самой пищей, только в другой форме – менее благородной и менее чистой. Таким образом, если, опираясь на Рай II, 11, предположить, что уже в «Convivio» «ангельский хлеб» означает богословие, то пришлось бы заключить, что и дантовский пир есть пир богословский, коль скоро он устроен из остатков ангельского хлеба. Отсюда следовали бы два равно неприемлемых вывода: во-первых, что «Пир» является теологическим сочинением, в то время как Данте без конца говорит в нем о Даме Философии, которой он воздает почитание; во-вторых, что Данте предал теологию, написав введение в эту науку для тех, кто не имел ни времени, ни средств для ее изучения.
Итак, подобно рыцарю, служащему созданной им Беатриче и буквально влюбленному в нее, о. Мандонне вызывает во имя нее на странную битву текст за текстом. Когда текст прогибается под ним, он – всегда побежденный, но никогда не теряющий присутствия духа – седлает новый текст, и так до бесконечности. В конце концов, он сам чувствует, сколь весомые возражения поджидают его экзегезу. Если считать, как считает о. Мандонне, что «Беатриче в своем ближайшем значении есть Теология», и что «за этой первой дамой последовала другая», то нужно считать, «что Алигьери прежде Философии дал обет Теологии, но оставил первую ради второй». На это само собой возникает возражение: почему тогда в «Пире» Данте нигде не говорит, что его первой дамой была теология, в то время как «прямо и неоднократно называет своей второй дамой… Философию»?[26] Это весьма занятный вопрос. Если мы не будем себя останавливать, то в конце концов, вместе с о. Мандонне, спросим себя: если безымянную даму, которая, как мы знаем, есть чистый символ философии, нам представляют как философию, то почему другую даму, которая носит имя собственное и нигде не сводится к состоянию символа, нам не представляют как теологию? Наверно, именно потому, что она – не теология, а Беатриче.
Однако о. Мандонне возражает: не верьте этому, Беатриче – просто теология, но Данте не хочет этого сказать, потому что не слишком гордится тем, что рассказывает: «Данте не имеет охоты кричать повсюду о том, что он был духовным лицом, но оставил свое призвание»[27]. Отчего же он не молчал, если не хотел, чтобы об этом узнали? Но, в конце концов, из-за чего ему так уж краснеть? Мы ведь в Средневековье, где изучение философии было первоочередным делом клирика. Cв. Альберт Великий и св. Фома Аквинский, знаменитые теологи, не усомнились прервать богословские занятия ради того, чтобы написать комментарии к философским трактатам Аристотеля. Эти люди никогда не думали, будто они тем самым предают свое духовное звание. Данте не настолько хорошо знал теологию, чтобы многое с нею терять; но прежде всего вспомним, что именно из любви к философии он впервые начал посещать монастырские школы. Вообразить, будто он считал постыдным поступок, естественный сам по себе и столь согласный с духом времени, – значит писать историю наизнанку о средневековом мире наизнанку, в котором якобы жил Данте.