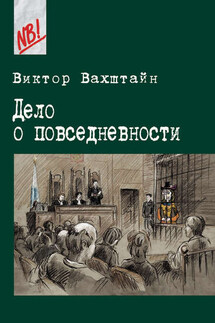Дело о повседневности - страница 9
В этой простой формуле есть одна подсказка и одна ловушка.
Подсказка содержится в упоре на «смысл». А ловушка – в предикате «субъективно полагаемый». Макс Вебер, как и добрая половина классиков немецкой социологии, находится под влиянием Баденской школы неокантианства. «Баденцы» же незадолго до появления социологии как науки сумели провести тонкий философский маневр, нацеленный против картезианского дуализма.
Если, согласно Декарту, все вещи делятся на протяженные (res exstensa) и мыслимые (res cogitans), то и изучение их возможно либо в модусе физики, либо в модусе психологии. Социологии просто не остается места. Неокантианцы Баденской школы расчищают пространство для социологов, «снимая» картезианский дуализм нетривиальным стратегическим ходом: да, есть вещи в пространстве и вещи в психике – но и те, и другие суть вещи, они существуют, т. е. принадлежат миру бытия. Про них всегда можно сказать «есть / нет». За гранью же мира бытия находится мир ценностей и связывающее два мира пограничное «царство смыслов». Это и есть подлинная реальность предмета социологического познания. Социология намеренно отказывается от изучения «вещей per se» и «поведения per se», ограничив предмет своего исследования их социальными смыслами. Про смысл (как и про ценность) нельзя сказать, что он «есть или нет». Смысл – не существует, он значит. Поэтому социолог должен решительно отвернуться от мира бытия, мира мыслимых и осязаемых вещей (равно как и от мира наблюдаемого человеческого поведения); его дело понять, что эти вещи значат. Данное различение лежит в основании Великого Раскола между «науками о бытии» и «науками о значении».
Здесь, собственно, и возникает веберовская модель социального действия. Действующий выходит за пределы своего наличного бытия, обращается к миру ценностей, находит смысл и воплощает его в конкретном действии. Т. е. само действие – это отражение некоторой ценности «в тусклом и кривом зеркале бытия». Поэтому крестьянин не совершает поступательных движений тяпкой (практический модус), а спасает свою душу в богоугодном труде (ценностный модус), равно как и ученый, предположительно, не максимизирует свой капитал, а ищет истину.[29] Подобный выход из мира бытия называется трансценденцией и легче всего распознается в ценностно-рациональных действиях, а предельный ее случай выражен в пограничных переживаниях. Таких, например, как переживание князя Андрея Болконского на поле под Аустерлицем.[30] (Это сравнение не будет выглядеть притянутым за уши, если вспомнить, что М. Вебер был почитателем таланта Л. Толстого.)
Смысл – категория, позволившая Веберу в первой части своего исследования протестантской этики и духа капитализма различить собственно капиталистическое усилие по максимизации прибыли и «auri sacra fames» – презренную страсть к наживе.[31] В наблюдаемом поведении две эти интенции совпадают: крестьянин-протестант, сутками работающий на пашне и полагающий сверхурочный заработок богоугодным делом, на практике мало чем отличается от просто алчного крестьянина, стремящегося заработать больше в период сбора урожая – различие их действий не в практиках, а в модусе осмысленности. Именно поэтому веберовское исследование фокусируется не на имманентных аспектах капитализма и протестантизма (собственно хозяйственных или религиозных практиках), а на смысловом и ценностном компонентах – «духе» и «этике».