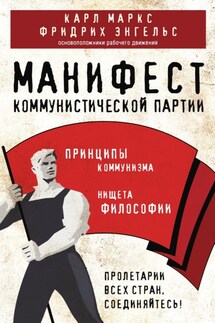Диалоги: Протагор, Ион, Евтифрон, Парменид - страница 7
IX
Согласно разумной вере, безусловное Доброе есть само по себе; но обладание им не дано человеку безусловно, а требует необходимых условий. Цель впереди, и нужен процесс ее достижения. Предполагается Сократом лишь общее понятие о том, что, будучи хорошо само по себе, может и все другое делать хорошим. Чтобы действительно достигнуть того, что единственно достойно достижения, первое условие – отвергнуть все, что не таково, вменить все прочее в ничто. «Я знаю только, что ничего не знаю» – за это исповедание, как думал Сократ, Пифия провозгласила его мудрейшим из эллинов. Первое условие истинной философии есть нищета духовная. Удивительное предварение первой евангельской заповеди, удивительное согласие дельфийского оракула с Нагорной проповедью, замеченное еще отцами Церкви первых веков христианства!
Объявление своей духовной нищеты среди кажущегося богатства есть, конечно, духовный подвиг. Но это подвиг, теряющий всю свою цену, если на нем остановиться, как делают скептики, у которых смиренное сознание своей недостаточности переходит в противоположное – в самодовольство и гордость. Для такого перехода требуется маленькая прибавка, чуждая Сократу и Евангелию: «Я ничего не знаю, да и знать ничего нельзя и не нужно». Утешение решительно ни на чем не основанное. Истинная духовная нищета не утешается сама собой, между ней и утешением лежит скорбь о своем состоянии: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И этому евангельскому плачу не противоречил смех Сократа, выражавший не радость своей нищетой, а лишь осуждение мнимого богатства. Объявление о своем незнании было для Сократа лишь первым началом его искания, духовная нищета вызывала в нем духовный голод и жажду. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» – новое согласие истинной философии и истинной религии, эллинской и еврейской мудрости.
Х
Если бы Сократ ограничивался исповеданием своего незнания, он был бы, конечно, самым приятным человеком и для охранителей, и для софистов. Обскурантизм первых и болтовня вторых одинаково требовали незнания – незнания о том, что по существу желательно и обязательно, что стоит и следует знать. «Мы ничего не знаем по-настоящему, – говорили охранители, – поэтому нужно слепо верить в отеческие уставы». – «Да, ничего нельзя знать, – подтверждали софисты, – поэтому нужно стремиться к своей выгоде, успеху и ко всякой силе, дающей выгоду и успех». И те и другие фактическое незнание спешили произвольно и недобросовестно возвести в закон, чтобы вывести из него то, что им хотелось, чтобы оправдать и навязать другим свою темноту и свое пустословие.
И это удалось бы им – так их заключения льстили духовной лени и всем низшим сторонам человеческой природы, и так их, по-видимому, оправдывала несостоятельность противоречивших друг другу философских учений. От философов, уронивших себя такими противоречиями, легко, казалось, отделаться и охранителям и софистам. Но они «считали без хозяина» – без Логоса Гермеса и его вековечного дара человеку. Ни гонения городов, ни противоречия самих философов не пугали философию, которая устами одного человека заглушала темные и пустые речи многоголовой толпы. Воплощенная в Сократе, на улицах и площадях афинских, поднимала она свой голос и, доказав всякому, что он ничего не знает, выводила отсюда беспокойные, но единственно достойные человека заключения: «Кто познал свое незнание, тот уже нечто знает и может знать больше; ты не знаешь – так узнавай; не обладаешь правдой – ищи ее; когда ищешь, она уже при тебе, только с закрытым лицом, и от твоего умственного труда зависит, чтобы она открылась».