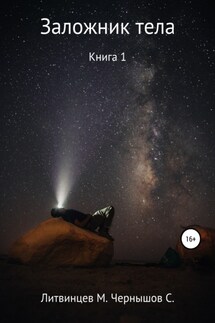Динамическая сущность характерологии В. О. Пелевина - страница 6
С незапамятных времён существуют различные виды искусства, мифы, эзотерика, мистицизм, религиозные учения, метафизика – ненаучные способыпостижения мира. Это тоже источники информации о мире, так или иначе уже прошедшие проверку временем, возможно, не до конца разгаданные. Принимая во внимание тяготение В. О. Пелевина к древним и средневековым восточным, эзотерическим учениям (различные школы буддизма, суфизм, цигун, каббала, мистицизм), будет целесообразно и продуктивно подключить для исследования характерологии писателя восточные и эзотерические представления о человеке. Тематика и образы суфизма использованы Пелевиным в «Принце Госплана» (разговор Саши Лапина с Аббасом), в «Асассине» из сборника «П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана». Древнекитайский оракул «Книга перемен» использовался в «Числах», в романе «S.N.U.F.F.». Древневосточной тематикой, средневековой китайской философией, её образами пестрит практически всё творчество В. О. Пелевина: буддист Гиреев в «Generation ‘П’», путеводитель по железным дорогам Индии, найденный Андреем в «Жёлтой стреле» и так далее. Об этом писал и А. Немзер:
«Буддизм, теория информации, юнгианство, структуралистский анализ мифа, оккультизм, кастанедовщина – чуть не все модные интеллектуальные заморочки перепеты им на язык родных осин» [162].
Итак, мы рассмотрели такие ключевые понятия, как «характер», «художественный характер», «эмоционально-ценностная ориентация». Также мы рассмотрели некоторые важные для нас концепции характерологии: собственно психологические и концепцию характерологии Т. Касаткиной. Обращение к психологическим классификациям для нас обусловлено спецификой цели писателя – просвещением своего читателя, что заключается в необычайно сильном воздействии художественного произведения на реального человека с целью изменения его характера (мировоззрения); об этом речь пойдет в следующих главах книги. Мы выяснили, что несмотря на свои успехи по отдельным пунктам, наука не может полностью объяснить сущность характера, доказать его зависимость от строения тела, контуров лица, цвета глаз и так далее. Остаётся актуальным вопрос, возможно ли определение характера человека на основании изучения его внешности? На протяжении веков связь между внешностью человека и складом его характера отчётливо фиксировалась в литературных произведениях и в изображениях великих художников. Научная психология исходит из положения, что зависимость между привычным выражением лица человека и складом его характера не является однозначной. То или иное выражение лица, складки, морщины могут иметь различные причины возникновения: причиной слегка приоткрытого рта может быть не только глупость человека, но и глухота, и больная носоглотка, и напряженное внимание. Наиболее достоверное представление о характере литературного персонажа можно получить, проанализировав его во взаимосвязи с другими персонажами, оценить его поступки и поведение.
Термин «характер» употреблялся ещё в Древней Греции. В книге «Характеры» Теофраста, ученика Аристотеля, это слово означает людей как носителей и воплощений какого-то одного свойства, преимущественно отрицательного: «…притворщик – это такой человек, который, подходя к врагам, хочет скрыть свою ненависть. Он в глаза хвалит тех, на кого нападает тайно, и соболезнует им, когда они проигрывают дело. Он извиняет тех, кто дурно говорит о нем и не сердится на своих обвинителей» [203, 23]. Подобными описаниями начинаются каждый из тридцати очерков, повествуя о том, как описываемые люди ведут себя, какие поступки совершают. Такое понимание слова «характер» тождественно позднему значению слова «тип» (схематическое воплощение одной человеческой черты в наблюдаемом извне и описываемом человеке). Человека в античности представляли преимущественно как живую вещь, всецело подвластную судьбе. Интересно мнение А. И. Белецкого: