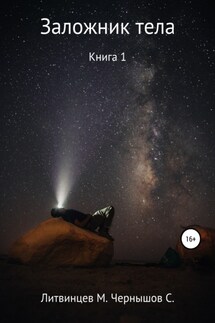Динамическая сущность характерологии В. О. Пелевина - страница 9
В вышедшей в 1842 году статье «Портрет Н. В. Гоголя» журнала «Современник» описаны способы создания характеров. В первом способе в характере называется главное, основное, он тяготеет к максимальной определённости. Второй способ заключается в изображении сложного, неоднозначного характера. Мастерами создания сложных, уникальных, внутренне противоречивых характеров считаются Н. В. Гоголь (Андрий в «Тарасе Бульбе», Чичиков в «Мёртвых душах»), М. Ю. Лермонтов (Печорин). Показательными в плане смены художественного сознания в сторону сложности и неоднозначности характера считаются произведения И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского [40].
По мнению А. В. Михайлова, эпопейный и романный способ видения мира реализуются в двух типах характера [158, 189]. «Греческий» характер обнаруживает свою направленность «вовнутрь» и, поскольку это слово приходит в сопряжённостьс внутренним миром человека, строит это «внутреннее» извне – внешнего и поверхностного. «Новоевропейский» характер строится изнутри наружу: «характером» называется заложенная в натуре человека основа или основание, ядро, как бы порождающая схема всех человеческих проявлений. В этом отношении интерес к эпопее в середине ХIХ века поддерживался надеждой на восстановление (восполнение) утраченного характера [158, 189].
В современном литературоведении распространено мнение, что традиционное деление персонажей на группы, составление различного рода классификаций, критерии выделения характеров должны быть иными, нежели называние психологических или социальных черт, составление портретов героев и антигероев по этическим признакам (добрые и злые, хитрые и простодушные, эгоисты и альтруисты и так далее). Важный аспект при исследовании характеров – взаимоотношения автора и героя. Также не следует забывать, что, решая проблемы героев, мы решаем и проблемы общечеловеческие. В целом, каждому писателю свойственны свои принципы, приёмы создания характеров. Если, например, говорят о чеховской характерологии, то часто отмечают отсутствие одномерности в изображении человека: у него нет ни злодеев, ни ангелов. Автор достаточно нейтрален, никого не обвиняет и не оправдывает; в характерах наблюдается совмещение противоречивых качеств, смешение лирического, драматического и комического начал. Чеховскую традицию отмечают у М. А. Булгакова. Считается, что контрасты в характерах у Булгакова не так заметны, как у Чехова. Это объясняется разным соотношением «событийного» и «разговорного» моментов в пьесах Чехова и Булгакова. Для чеховских пьес характерен принцип ослабления событийной стороны. Различия характеров зафиксированы у Чехова преимущественно в разговорах персонажей: самохарактеристика, характеристика через других персонажей, обилие деталей. У Булгакова больше событий и меньше «разговоров». Характеры персонажей Булгакова раскрываются больше в поступках и действиях. Как оппозиция рассмотренным характерологиям (в сторону упрощения, схематизации в изображении человека) – «кожаные куртки», каковыми изображали коммунистов, рабочий класс в двадцатые годы XX века (Б. Пильняк).
Говоря о характерологии в творчестве В. О. Пелевина, необходимо учитывать и постмодернистский контекст. Постмодернисты «доказывают невозможность существования целостной личности человека, который, по их понятиям, способен выступать только во фрагментированном состоянии, а любая попытка логически мыслить приводит его к подчинению стереотипам, клише мышления, выработанным господствующей идеологией [105, 195]. Н. Е. Лихина в работе «Актуальные проблемы современной русской литературы. Постмодернизм» раскрывает специфику человека эпохи постмодернизма. Последняя определяется тем, что он существует уже после того, как произошло децентрирование и уже не работают такие привычные мифологемы, как Бог, Природа, Душа. Для человека в постгуманистическую эпоху характерно ощущение катастрофы, конца света. Вся мировая история начинает восприниматься как фатальный процесс, человечество обречено, сам человек, как стало ему представляться, вовсе не мера всего сущего, наоборот, он слаб и глубоко ущербен. Бытует мнение, что концепции личности у постмодернистов нет. Человек – это антиличность, антигерой, персонифицированное зло [149]. Человек в постмодернизме радикально отличается от предшествующих концепций человека в искусстве. Само понимание действительности и стратегия её восприятия резко изменилось: доминируют нестабильность, хаотичность, фрагментарность. Под вопросом оказалось существование целостной личности как таковой. Известны такие постмодернистские интерпретации человека: человек – «негативное пространство» (Р. Краус), «случайный механизм» (М. Сересс), «фрагментарный человек» (Ж. Деррида) [105, 180]. Широко известна концепция Р. Барта о «смерти субъекта». В постмодернизме человек рассматривается как «дивид» (Ж. Лакан) – фрагментированный, разорванный, смятённый, лишённый целостности человек Новейшего времени. «В современном представлении человек перестал восприниматься как нечто тождественное самому себе, своему сознанию, само понятие личности оказалось под вопросом, социологи и психологи (и это стало общим местом) предпочитают оперировать понятиями "персональной" и "социальной идентичности", с кардинальным и неизбежным несовпадением социальных, "персональных" и биологических функций и ролевых стереотипов» [105, 78]. Для постмодернистского типа личности характерны алогизм и немотивированность поступков, непредсказуемость, спонтанность поведения, нестандартное восприятие мира, неумение правильно ограничивать свои желания, подсознательная тяга к разрушению всего и вся в совокупности, суицидальные мотивы, что, прикрыто благочестивой внешностью, социальным статусом. Всплески негатива ничем не мотивируются. Демонстрируется торжество абсурда, доходящего до безумия [149]. Постмодернистский лингвистический переворот привёл к тому, что вся человеческая культура представляется как сумма текстов, сознание как текст, бессознательное как текст, «Я» как текст, текст, который можно прочитать по соответствующим правилам грамматики, специфичным, для каждого вида текста, но построенным по аналогии с грамматикой естественного языка [105, 187]. Считается, что В. О. Пелевин – постмодернист, но вряд ли можно однозначно сопоставить его героев с описанным выше постмодернистским типом. В его произведениях нет такого законченного, полноценного для этого литературного направления сложного героя (характера). Более того, сам Пелевин не считает себя постмодернистом, говорит, что у него свой стиль: