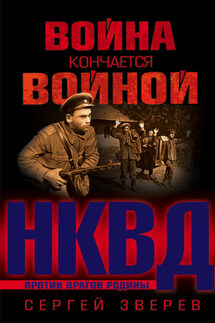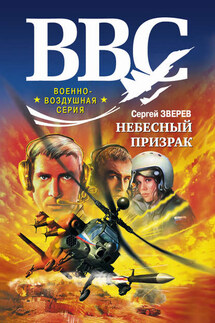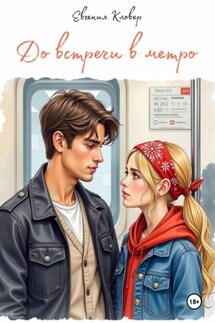Дискурсивно-профессиональная подготовка - страница 20
Развитие риторики зависит от возможности воздействовать на слушателей; ее процветание невозможно, если речь не связана с жизнью, не из нее черпает содержание, не отвечает жизненным запросам и требованиям времени; в противном случае она быстро теряет «интерес», становится школьным упражнением. Российские, а потом в массе своей и советские ораторы были практически лишены возможности влиять на политику, и это привело к перерождению риторики сначала в словесность, а потом и в культуру речи, питавшуюся «безопасными» текстами из произведений классической литературы. «Когда у нас говорят о слове, – писал в 1923 г. советский ритор В. А. Гофман, – то обычно подразумевают слово художественной литературы. Когда рассуждают о словесном творчестве, имеют в виду творчество литературное»49.
Литературоцентричность образования имеет и свои неоспоримые достоинства. Это касается расширения когнитивных возможностей речи, использования прецедентных феноменов, актуализирующих внутритекстовые и межтекстовые связи слов и выражений, значительная часть которых, как показывают исследования В. Г. Костомарова и Н. Д. Бурвиковой50, заимствуется из произведений художественной культуры. Впрочем, широкое использование прецедентных текстов в дискурсе скорее носит характер языковой игры, являясь элементом элитарной языковой культуры. Стилистическая чистота и нормативная правильность речи, которой в рамках культурноречевого направления уделяется приоритетное внимание, с древности выступали фундаментом образованности.
Литература удовлетворительно выполняла свою воспитательную функцию до тех пор, пока корпус ее текстов, использовавшихся в образовании, составляли произведения великих или выдающихся мастеров слова. Например, советская система воспитания стояла не столько на изучении классиков марксизма-ленинизма, необходимость в которых возникала спорадически, сколько на произведениях золотого и серебряного века русской литературы и на патриотической литературе о Великой Отечественной войне.
В наше время роль литературы претерпевает существенные изменения. Падение значения литературы в философской концепции постмодернизма, по М. Фуко, объясняется «замыканием» языка на самом себе, иллюстрирующем самостоятельное бытие произведения словесности: «Слово-образ, слово-символ, слово-знак, слово, замкнутое на само себя, – таковы основные перипетии языка в новоевропейской культуре»51.
В современной педагогике до сих пор недостаточно полно осмыслен и учитывается характер воздействия информационного общества на все сферы жизни и деятельности человека. Это касается отмеченного уже в конце XIX в. Г. Тардом факта превращения образованной части общества, которое определяет характер общественного развития, в публику, формирующуюся под воздействием средств массовой коммуникации. Следствием определенного отрыва содержания речи от качеств личности ее автора, характерного для такого рода коммуникации, по Тарду, является падение ценности отдельного мнения, когда «голоса могут только считаться, но не взвешиваться». Можно сделать вывод, что в условиях информационного общества трансформируется сама категория убедительности; традиционно качественная ее сущность в значительной степени замещается количественной, отчего до определенной степени нивелируется роль и значение аргументации, на которой стояла классическая риторика. Пресса – полагал далее Тард, – «бессознательно способствовала созданию силы количества и сокращению силы характера, если не разума»