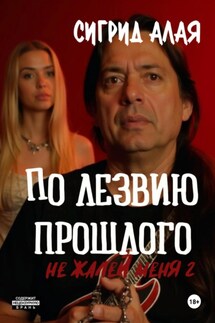Дневник узника цифрового концлагеря - страница 6
Основу строений деревни составляли деревянные жилые дома с хозяйственными постройками, простирающимися вдоль единственной грунтовой дороги, являвшейся в прошлом полотном железной дороги, по которой жители передвигались пешим ходом, редко на велосипедах и мотоциклах, передвижение домашних животных являлось обычным явлением. Деревня со всех сторон окружена лесом, кормящим и обогревающим её население.
Мама будущего мученика 1921 года рождения перебралась на новое место жительства в Сибирь с семьёй в малолетнем возрасте в поисках лучшей жизни в конце 20-х годов из Псковской области, где жизнь после революции была неспокойной, материально необеспеченной, тяжёлой и голодной. Отца уроженца одной из деревень Смоленской области в 10-ти летнем возрасте с семьей в конце 20-х годов выслали в Сибирь органы НКВД, признав кулаками из-за наличия на личном подворье домашнего скота с сельскохозяйственными угодьями в период проводившейся в стране коллективизации сельского хозяйства. Отца призвали в ряды Советской Армии в 1939 году, где он отслужил по март 1945 года во внутренних войсках на Севере, с апреля 1945 года по март 1946 года – в составе военно-морских сил Тихоокеанского флота матросом на сторожевом пограничном катере. В августе 1945 года ему довелось принимать участие в войне с Японской Армией, получил лёгкое ранение. Был награжден незначительными государственными наградами. По истечению 3-х месяцев после демобилизации из Военно-морского флота сочетался гражданским браком с будущей мамой Владимира. Два старших брата мамы погибли во время Великой Отечественной войны: старший при защите Москвы в 1941-м году, младше его – при защите Сталинграда в 1942-м году. Поэтому празднование в семье Дня Победы являлось святым. Часть кровных родственников семьи проживала в деревне, другие проживали в соседней с краем области и трудились в шахтах.
Как в стране, так и крае медленно восстанавливалось после окончания Великой Отечественной Войны народное хозяйство, а в далекой сибирской деревне время остановилось: жители по-прежнему проживали в старых срубленных из дерева ветхих домах, огороженных покосившимися деревянными заборами. Получение коммунальных услуг обеспечивалось традиционными первобытными способами: воду для потребления добывали из речки и колодцев, мылись в банях, взамен туалетов вырывались в земле за жилыми постройками выгребные ямы, огороженные дощатыми сооружениями, электричества не было. Жилые дома и хозяйственные постройки размещались по обеим сторонам одной улицы – полотна старой железной дороги на расстоянии от 30-ти до 50 метров. Западная сторона деревни закачивалась деревянным мостом, за ним по правую сторону дороги размещалось деревенское кладбище. Деревенская молва свидетельствовала, что на окраине деревни в 1930 годах проводили массовые захоронения врагов народа, снятых с поездов умерших в пути конвоирования. Их трупы закапывали в вырытые в земле рвы, какие-либо обозначения захоронений не проводили. Создание непосредственных лагерей для врагов народа деревню миновало, но проведение в те годы в отношении граждан страны политических репрессий являлось очевидным: на мелкой железнодорожной станции останавливались товарные поезда, перевозившие в вагонах заключённых, а в деревне обвинённые врагами народа некоторые жители забирались органами в ночное время по анонимным доносам, потом бесследно исчезали.