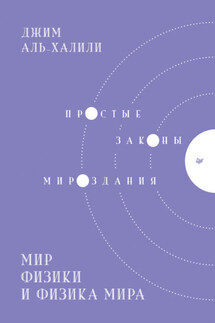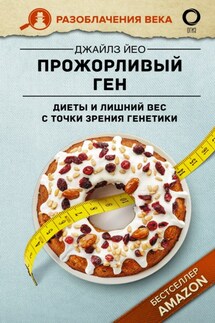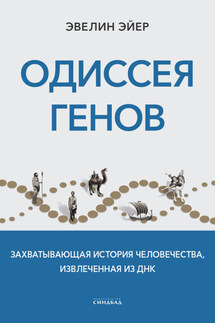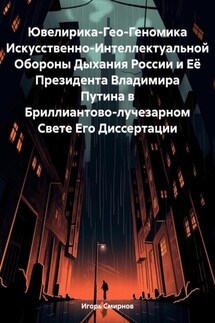ДНК. История генетической революции - страница 11
После публикации книги Дарвина «О происхождении видов» в 1859 году такие проблемы стали особенно актуальны. Хотя Дарвин воздерживался от упоминания и анализа путей человеческой эволюции, опасаясь «подливать масла в огонь» уже бушевавших в обществе противоречий, не нужно быть провидцем, чтобы не понимать возможности применения к людям идеи естественного отбора рядом научных работников. С одной стороны, естественный отбор – сила, определяющая судьбу всех генетических изменений в природе. С другой стороны – это и мутации, которые обнаружил Морган в гене дрозофил, отвечающем за цвет глаз, и, вполне возможно, неравные способности к социализации.
В природе популяции организмов обладают мощным репродуктивным потенциалом. Возьмем, к примеру, плодовых мушек, поколение которых сменяется всего за десять дней, а каждая самка откладывает примерно три сотни яиц (причем из половины яиц вылупятся самки). Если взять всего пару плодовых мушек, то через месяц (спустя три поколения) будет 150 × 150 × 150 плодовых мушек – более трех миллионов особей, и все они будут происходить от всего одной пары, которая начала размножаться всего месяц назад. Дарвин пояснил этот момент, выбрав вид с противоположного конца репродуктивного спектра:
Слон плодится медленнее всех известных животных, и я попытался вычислить минимальные размеры его размножения. Он начинает плодиться, всего вероятнее, не ранее тридцатилетнего возраста и до девяноста лет приносит шесть детенышей; допустив эти цифры, получим, что спустя пять столетий от первой пары слонов произошло бы пятнадцать миллионов живых потомков.
Проведенные расчеты показывают, что большинство новорожденных плодовых мушек и слонят благополучно достигают зрелости. Таким образом, теоретически требуется только бесконечный источник пищи и воды, поддерживающий репродуктивную пирамиду. Однако на практике такое не происходит: пищевые ресурсы ограничены, выживают далеко не все плодовые мушки и слонята. Между различными особями в пределах вида также идет конкуренция за ресурсы. Возникает вопрос: от каких обстоятельств зависит, кто выйдет победителем из этой конкурентной борьбы? Дарвин отмечал, что в силу генетической изменчивости некоторые особи получают преимущество в борьбе за существование. Известный пример – эндемичная группа птиц, населяющая Галапагосские острова и остров Кокос (дарвиновские вьюрки). Особи, обладающие определенными признаками, скажем достаточно крупным клювом, который позволяет питаться наиболее изобильными семенами, имеют более высокие шансы на выживание. Поэтому такой выгодный вариант гена, обеспечивающий нужный размер клюва, передается следующему поколению. Таким образом, естественный отбор обогащает следующее поколение полезными мутациями, таким образом через определенное число поколений все особи приобретают некоторый полезный признак в виде размера и формы клюва.
Викторианцы экстраполировали ту же логику на людей. Они осмотрелись – и увиденное их встревожило. Достойные, нравственные, работящие представители привилегированных классов безнадежно проигрывали в воспроизводстве грязным, аморальным, ленивым выходцам из низов. Викторианцы предполагали, что такие достоинства, как порядочность, нравственность и трудолюбие, передаются в совокупности точно так же, как и пороки: непристойность, распутство, леность. Следовательно, такие признаки должны были наследоваться и, с точки зрения викторианцев, также были просто двумя вариантами дарвиновской генетической изменчивости. Если всякая чернь плодится эффективнее респектабельных господ, то в человеческой популяции должны накапливаться «плохие» гены. Наш вид обречен! Люди должны постепенно все сильнее развращаться, по мере того как будет все сильнее возрастать частотность «аморальных» генов.