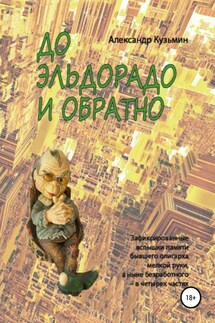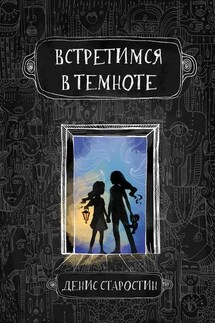До Эльдорадо и обратно - страница 27
Только приколотил, только гордо уселся за стол на корзину из-под мусора (даже уважение начальства не могло помочь со стулом), входит зампред – благодетель-электрификатор.
‒ Это что? – могучий палец упирается в мой диплом (зампред начинал свою карьеру грузчиком в денежном хранилище ЦБ СССР).
‒ Диплом кандидата наук.
‒ Красивый. Где достал? Во сколько встало?
‒ Да нет, это мой, честно добытый в борьбе с Учёным советом.
‒ Хорош заливать. Дай-ка его сюда, я фальшивые банкноты на нюх чую.
Снимаю диплом, подаю. Зам с удивлением принюхивается минуту-другую, потом выходит в коридор и кричит, не скрывая восторга:
‒ Бабы! Мы-то думали Санёк у нас совсем м…ак, а он кандидат наук!
Так единственный раз в жизни мне по-настоящему принесло пользу учёное звание.
Эпизод четвёртый. На юг, за повышением квалификации
«Летят перелётные птицы
В осенней дали голубой
Летят они в дальние страны…».
М. В. Исаковский
Не прошло и трёх месяцев, как я ещё выше поднял свой авторитет среди передовиков капиталистического производства – добыл по-настоящему ценную информацию. В городе Сухуми организовывался семинар по повышению квалификации банковского планктона, как сказали бы сейчас.
Надо сказать, что дело было в ноябре, в Москве становилось совсем грустно, так что выезд в теплые края вместе с «командировочными» средствами был принят на ура всеми, за исключением остающихся. Меня, как добытчика сведений о легальном отлынивании от работы за счёт заведения, не посмели не послать вслед за перелётными птицами.
Товарищи по счастью отнеслись к делу серьёзно. Нашли в кредитных историях заёмщика родом из деревни под Сухуми. С помощью нехитрой аргументации убедили его взять шефство над выездным филиалом, чему он и сам был рад – давно не видел бабушку.
Погрузились, выпили, полетели.
После снега с дождем, сыпавшего с серого московского неба – теплынь и солнце в аэропорту дружественной республики. «Прямо Канны», – заявил предводитель группы. Мы согласились, хотя все, в том числе и оратор, слабо представляли, о чём это он.
На площади возле аэропорта нас встретили кунаки кредитозаёмщика на двух «девятках» с тонированными стёклами – по тем временам шик невообразимый.
Сели, поехали, вернее полетели – джигиты держали фасон. Мчимся по улице, впереди перекрёсток, видимость заслоняет буйная флора. Пилот не тормозит, пролетает перекрёсток. Я осторожно интересуюсь:
‒ Зачем же так рисковать?
‒ А-а-а, здэсь рэдко машины ездят! – под лезгинку, рвущуюся из приёмника, небрежно замечает сухумский герой.
Вдруг с противоположной стороны дороги, наперерез нам бросается за добычей гаишник. Жезл вертится так, что издали работника ГИБДД не отличишь от ударного вертолёта К-50 «Чёрная акула». Не сбавляя скорости, рулевой приспускает стекло и кричит:
‒ Дорогой, не могу остановиться – спешу очень! Обратно поеду, поговорим!
Гаишник молча поворачивается и идёт к своему авто. Да, сколько не говори про тонкость Востока, а он всё равно тоньше.
Под Москвой такое не прокатывало. Приведу пример. Внимательный читатель помнит, что Родитель тогда ездил на москвиче типа «каблучок» – с двумя сидениям и грузовым отсеком. И вот как-то раз идём мы на этом отечественном сухогрузе (так его Шеф называл – в детстве моряком мечтал стать) по курсу Москва-Калуга. На посту ГАИ нас тормозят. Шеф, вместо того чтобы остановиться, даёт правой ногой команду полный вперёд и начинает уходить от тут же образовавшейся погони. Наш «пелотон» движется (мчаться мощность моторов не позволяла) по киевскому шоссе под завывания сирен, мат из гаишного громкоговорителя и мои мольбы остановиться.