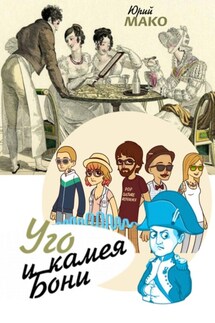«Додж» по имени Аризона - страница 27
– Ну вот, так бы сразу и сказала. Гэрадаус унд дан нах рехтс.
Нет, надо с этими немецкими словечками заканчивать. А то сыплются они из меня к месту и не к месту. Вон как рыжая на меня возмущенно косится глазищами своими желтыми. Глаза у нее, как два прожектора, так и прожигают насквозь. Дымиться, наверно, скоро начну от этих взглядов.
Помню, у нас в разведроте один парень в медсанбат на пару дней угодил с касательным ранением, а на столе письмо недописанное осталось. Адрес он нацарапал, а само письмо так и не начал – два дня думал, чего б такое написать, и додумался – пулю плечом поймал. Ну а мы после поиска гурьбой ввалились, красные от мороза и наркомовских – и давай за него дописывать. Еще края на коптилке обуглили и начали: «Дорогая Катя. Пишу я тебе из горящего танка».
И пошло-поехало. Каждый норовит свое вставить.
«Глаза ваши горят в ночи, как две осветительные ракеты. Вы прекрасней, чем залп «катюш». Каждый раз, когда я сжимаю пальцами горло очередного фашистского гада, я думаю только о вас…» и так далее. Всю страницу подобной чушью измарали. Вспоминать стыдно.
И вдруг капитан заходит. Сел, начал читать, а мы стоим вокруг и трезвеем потихоньку. Ну, думаем, ой, что сейчас будет. Во-оздух! Хоть под нары ныряй!
Дочитал до конца, усмехнулся, взял ручку и дописал пару строк. А потом вышел. Ну, мы к столу, а там:
«Дорогая Екатерина. Это письмо написали бойцы той роты, где служит ваш Виктор. С ним все в порядке, просто они его очень любят и решили ему помочь. Вас они тоже любят, так что не обращайте на все эти шутки внимания». И подпись.
Так-то вот.
Ладно. Проехали мы километров двадцать, гляжу – самолет. Наш, истребитель, «яковлев». Лежит – в землю мотором ткнулся.
Я к кабине – а в ней летчик. Сорвал фонарь, сунулся – да где уж там. Он тут уже не меньше суток сидит. И главное – дыр от пуль нет, только лицо кровью залито.
Отстегнул его кое-как, вытащил на траву, документы из кармана достал, «ТТ» из кобуры, вместе с обоймой запасной. Начал смотреть – а он меня на год младше! Лейтенант. Только-только двадцать исполнилось. Сижу рядом и думаю – ну что же ты натворил, лейтенант! Прыгать надо было, прыгать! А ты ее сажать поволок. Ну и посадил, называется.
Кроме документов, у него еще только бумажник нашелся. А там – одна сторублевка, сиреневая, мятая, и фотокарточка. Девчонка с косичками улыбается. А подписи на обороте нет.
Обошел самолет вокруг – ну да, только в мотор и попало. Двигатель, пушка, пулеметы – все всмятку, перекорежило так, что только в металлолом. Эх, лейтенант.
Принес лопату из «Доджа», начал копать. Земля еще хорошая попалась, мягкая. Да и место тут неплохое. Тихое.
Выкопал где-то на метр. Вытащил парашют из кабины, раскрыл и отхватил кусок. Не обеднеют, думаю, местные с трех метров. Завернул тело в шелк…
Надо, думаю, фанеру, что ли, какую-то приспособить, да где ж ее тут возьмешь. Потом придумал. Отодрал от хвоста кусок обшивки со звездой, прут какой-то железный из кабины выломал и выцарапал на обшивке все, что в таких случаях положено. Постоял, ну и из «ТТ» выстрелил напоследок. А потом сел в «Додж» и поехал.
Рыжая как все время в машине просидела притихшая, так и сидит. Только когда километра на три отъехали, пошевелилась и тихонько так спрашивает:
– А зачем ты стрелял?
– Ну, – говорю, – это прощальный салют. Вроде как последняя дань погибшим. А потом уже и тишина.