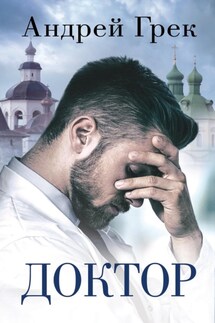Доктор - страница 2
Иногда было чувство, что он погружается в чан с нечистотами: настолько был резок контраст между чистым, восторженным настроением храмовой службы – и той мелко-суетной жизнью, что мутно кипела вокруг.
Вот и сегодня: едва он, отслужив, пришёл к себе в келью, за ним прибежали из кухни.
– Отец Яков, идёмте скорей, там опять безобразят!
– Что такое?
– Двое урок напились за трапезой, а теперь требуют, чтобы их поселили в гостиницу.
Когда о. Яков, катающий желваки по напрягшимся скулам, быстро вошёл в трапезную – пьяных там уже не было.
– Где они?
– Только что вышли, отец Яков, – ответил послушник, гремевший посудой. – Покурить им, видите ли, захотелось…
Те двое, одетые, как попугаи, в цветастые куртки, стояли, пошатываясь и сыто икая, на ступенях Введенского храма – и оба курили. Вытатуированные перстни синели на их пальцах вперемежку с литыми печатками, рты сверкали золотом фикс, а на оголившейся, потной груди одного синело не меньше десятка церковных куполов: по одному на каждый год отсидки. Вот этот-то, с куполами на жирной груди, был особенно мерзок: лысый, огромного роста, с лицом, перечёркнутым шрамом. Он посмотрел на подошедшего о. Якова хмельным и насмешливым взглядом.
– Ты, батя, не бзди, – гигант положил на плечо о. Якову руку. – Мы еще по бутылочке скушаем, да пойдём себе баиньки. Есть у вас тут номера поприличнее?
Монах, резко дёрнув плечом, сбросил тяжёлую руку. Пьяный гигант помрачнел.
– Что это здесь какие-то нервные все? – спросил он худого, курившего рядом, напарника. – Что шестёрки на кухне, что этот монашек… Я так не люблю: я люблю, чтоб со мной по-хорошему!
И он, пожевав сигарету, с досадою сплюнул: комок жёлтой слюны шлёпнулся на ступень храма.
Никто не успел понять, что случилось: через мгновение жирный гигант лежал на спине, его ноги дёргались, а изо рта текла кровь. О. Яков и сам с недоумением, как на что-то чужое, посмотрел на свой собственный, в кровь разбитый, кулак.
Второй уголовник куда-то исчез, а вокруг о. Якова и поверженного гиганта засуетились люди.
– Оттащите его за ворота, – пряча разбитый кулак в подол рясы, приказал о. Яков послушникам. – Пусть там полежит, пока не очухается. И помойте ступени…
Его всё сильнее знобило: как будто вся ярость и всё напряжение краткого боя достигли своей высшей силы вот только сейчас, когда всё было кончено. От высокого, чистого настроения службы не осталось следа. С окаменевшим и серым лицом о. Яков пошёл к себе в келью, стараясь ни на кого не смотреть. «Что ж за люди-то, господи? – думал он. – Да и сам-то хорош: распустил кулаки, как мальчишка в уличной драке… Завтра к настоятелю надо пойти исповедаться, чтобы он епитимию наложил, а то служить нельзя будет…»
До самого вечера мучился он отвращением к людям и к себе самому: он был словно отравлен всем тем, что случилось сегодня. «Похоже, я болен…» – вздыхал о. Яков. На глаза вдруг попались тетради, которые он еще утром принёс из котельной. «Что это? Ах, да: записки покойного истопника…»
И он раскрыл верхнюю из лежавших на подоконнике четырёх тетрадей. Первое, что поразило его, и чего не заметил он раньше – это то, как разгонистый почерк Григория был похож на его собственный. «Надо же, – удивился монах. – Словно я сам всё это и написал…» Почерк был неразборчив, но о. Яков легко разбирал строчку за строчкой, как будто читал своё собственное письмо.
Чтение всё сильнее его увлекало. Он пододвинул поближе настольную лампу и сел поудобнее. Было чувство, что кто-то находится с ним, о. Яковом, в келье, вместе с ним перелистывает тетрадь, и это незримое чьё-то присутствие утешало монаха, уставшего от одиночества.