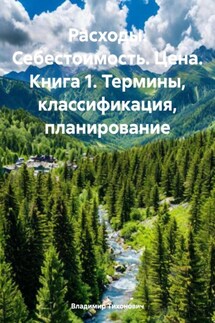Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени - страница 52
Капиталистическое рабство отчасти было причиной, а отчасти следствием успеха поселенческого колониализма. Ибо рост количества и трудолюбия колонистов постоянно ограничивался и постоянно возобновлялся нехваткой рабочей силы, которую невозможно было удовлетворить, опираясь исключительно или даже прежде всего на стихийное предложение со стороны поселенцев или принуждение местного населения. Эта хроническая нехватка рабочих рук увеличивала прибыльность капиталистических предприятий, занимавшихся покупкой (прежде всего в Африке), перевозкой и производительным использованием (прежде всего в Америках) рабского труда. Как отмечает Робин Блэкберн (Blackburn 1988: 13), «новое мировое рабство решило проблему колониального труда, когда не было видно никакого другого решения».
Решение проблемы колониального труда, в свою очередь, стало основным фактором в расширении инфраструктуры и рынков, необходимых для поддержания производительной деятельности поселенцев.
Поселенческий капитализм и капиталистическое рабство были необходимыми, но недостаточными условиями успеха французского и британского меркантилизма в радикально реструктуризировавшейся глобальной политической экономии. Третья ключевая составляющая – экономический национализм – имела два основных аспекта. Первым было бесконечное накопление денежных излишков в колониальной и межгосударственной торговле – накопление, с которым зачастую отождествляется меркантилизм. Вторым было создание национальной, или, точнее, внутренней экономики. Как подчеркивал Густав фон Шмоллер, «в своей основе [меркантилизм представлял собой] всего лишь укрепление государства – не укрепление государства в узком смысле слова, а укрепление государства и национальной экономики» (цит. по: Wilson 1958: 6).
Укрепление национальной экономики довело до совершенства в существенно расширенном масштабе практику самоокупаемости войны путем превращения расходов на защиту в доходы, первопроходцами в которой итальянские города-государства стали тремя веками ранее. Отдавая соответствующие указания бюрократиям и стимулируя частные предприятия, правители Франции и Британии интернализировали в своих владениях столько различных видов деятельности, которые прямо или косвенно использовались при ведении войны и укреплении государства, сколько было вообще возможно. Таким образом, они смогли превратить в налоговые поступления намного большую долю издержек защиты, чем итальянские города-государства или, если на то пошло, Соединенные Провинции. Тратя такие налоговые поступления внутри своих экономик, они создавали стимулы и возможности для создания новых связей между различными направлениями деятельности и тем самым повышали самоокупаемость войны.
Но на самом деле война не просто стала «самоокупаемой»: все большее число гражданских жителей мобилизовалось для косвенной и зачастую неосознанной поддержки усилий правителей по ведению войны и укреплению государства. Ведение войны и укрепление государства становилось все более широкой деятельностью, охватывавшей все большее число внешне не связанных между собой направлений деятельности. Способность меркантилистских правителей мобилизовать усилия своих гражданских подданных на выполнение этих действий не была безграничной. Напротив, она жестко ограничивалась их способностью присваивать прибыль от мировой торговли, поселенческого колониализма и капиталистического рабства и превращать такую прибыль в адекватное вознаграждение за предпринимательские и производственные усилия своих подданных в метрополии (ср.: Tilly 1990: 82–83).