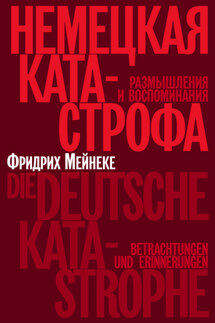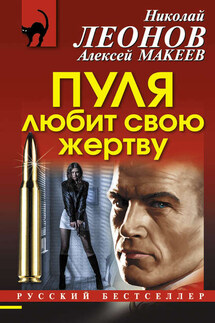«Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы. Исследования по Новой и Новейшей истории - страница 29
В 1828 г. А. Мицкевич пребывал в Петербурге и ощутил интерес российской читающей публики к его новому произведению. Литературный критик Ксенофонт Полевой таким образом характеризует это внимание: «Многочисленный круг русских почитателей поэта знал эту поэму, не зная польского языка, то есть знал ее содержание, изучал подробности и красоты ее. Это едва ли не единственный в своем роде пример! Но он объясняется общим вниманием петербургской и московской публики к славному польскому поэту и <так> как в Петербурге много образованных поляков, то знакомые обращались к ним и читали с ними новую поэму Мицкевича в буквальном переводе. Так прочел ее и Пушкин. У него был даже рукописный подстрочный перевод ее, потому что наш поэт, восхищенный красотами подлинника, хотел, в изъявление своей дружбы к Мицкевичу, перевести всего «Валленрода»[238].
Уже в марте 1828 г. (возможно и раньше) Александр Пушкин начинает перевод «Конрада Валленрода», но сейчас же бросает его и с начала апреля приступает к работе над «Полтавой» (первоначально «Мазепа») [239]. Пушкин избрал для перевода Вступление к «Конраду Валленроду»[240], в котором как раз наиболее сильно звучит тема историзма. Отдельно отметим, что по этому же пути, уже для белорусского перевода, в 1910 г., пойдёт Янка Купала[241]. Впервые Вступление к «Конраду Валленроду» в переводе А. Пушкина было опубликовано в 1829 г.[242]:
А. Пушкин
В середине XIX в. было создано еще одно поэтическое произведение, апеллировавшее к событиям под Пиленами – это была поэма Владислава Сыракомли (1823–1862) «Маргер». В «Слове от Автора» Сыракомля сослался на орденскую хроникарную традицию: «Litewscy i pruscy kronikarze zapisali pod r. 1336 napad krzyżacki na zamek Pullen, bohaterską jego obronę przez wodza Margiera i zgon Litwinów, którzy nie chcąc się żywo oddać w ręce nieprzyjaciół, sami się na stosie na ofiarę swym bogom pozabijali»[243]. Основная мысль поэмы была вложена автором в уста главного героя во время отважного самоубийства[244]:
Автор, рассказывая об одном локальном событии, стремится создать общую картину истории Литвы, очертить эпоху экспансии Ордена