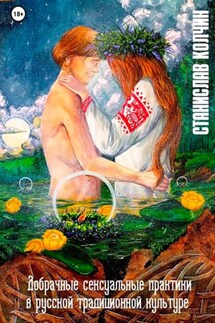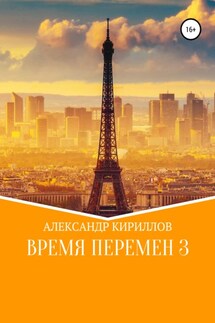Дорожная традиция России. Поверья, обычаи, обряды - страница 28
Н. А. Рябова (1926 г. р.) из пос. Суна Кировской области упоминала о «рябовской поскотине» – огороженном загоне между д. Копырята и д. Быки. Это место считалось опасным, в нём происходили загадочные события. Её отец ехал там однажды. «А мерин идёт тихо, словно тонну везёт. Лошадь выбивается из сил, вся мокрая». Когда отец приехал домой, «ему послышалось, что кто-то затопал, захохотал, как будто много народу сошло». Жена ему растолковала: «Так это леший у тебя в телеге-то сидел». На поскотине, как говорили, «водилась нечистая сила», там «леший озоровал»[141]. У д. Здерихино того же Сунского района при дороге было «чёртово городище». Т. Ф. Мурина (1931 г. р.) рассказывала, что её брат поехал на лошади свататься, и вот там «лошадь встала, и ни с места». Он и переобувался «на косую ногу», и лошадь перепрягал, и «кольца у дуги сделал в обратную сторону, чтоб в сторону смотрела» – ничего не помогало. Ну, брат перекрестился, прочитал молитвы – тогда услышал чей-то смех, а лошадь с места и тронулась[142].
Вообще на Вятке часто рассказывали о том, как леший подсаживался к ехавшему путнику, чаще всего – невидимкой, и лошадь тогда выбивалась из сил[143].
Лошадь не хотела или не могла толком идти и тогда ещё, когда на повозку подсаживался колдун. Художник В. М. Максимов, автор известной картины «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), в конце XIX в. посылал в Этнографическое бюро В. Н. Тенишева сведения о жизни русских крестьян Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. Сам Максимов был знаком с одним тамошним колдуном и записал его рассказ «о том, как он сделался знающим человеком (попросту колдуном)». Судя по всему, его-то Максимов и запечатлел на своей картине. Первая встреча художника с ним произошла так. Как-то подвёз Максимов случайного попутчика. А потом, когда тот уже слез, ямщик заявил Максимову: «Ведь это Григорий Семёнович Шарабара, он страшный колдун; вы заметили, что кони зачихали, пошли тихо, когда он сел в тарантас?»[144]
Зимние вьюги, когда можно было заплутать в дороге, приписывали опасным святочным бесенятам – шиликунам. Уроженец Котельничского уезда Вятской губернии Г. А. Котельников (1925–1999) в очерке о «крещенских вечерах под Котельничем» писал:
«Шиликуны, закрутив в поле вьюгу, ночью невесть куда водили запоздалого путника, сбивали лошадь с дороги, да чего только не творили. По рассказу нашей покойной соседки Раисы Агеевны, её братан (двоюродный брат. – В. К.), ехавший вечером на Крещенье из Котельнича домой, в деревню Вагины (давно это было, до советской власти), повстречался с шиликунами:
– Лошадь в один миг остановилась, хочет сдвинуть сани, но не хватает силы, рвётся вперёд, пятится, фыркает ноздрями, как на пенёк наехала. А дорога ровная, закатана. Перекрестясь, начал читать молитву: “Да воскреснет Бог и расточаются (так! – В. К.) врази Его…” Рванула лошадь и легко побежала. Шиликуны-то невидимы, в сани, оказывается, прыгнули. Я-то не растерялся, молитвой их выгнал»[145].
В Белозерье, на Русском Севере был записан такой диалог собирателя-фольклориста с информантом: «(Были злые люди, которые порчу наводили?) Да, были. (А сейчас есть?) А теперь, поди знат, есть: и сделают. Вот у нас в Екимове. Поехали туды, в деревню, так колесо дорогой свалилось, и кони не пошли, всё наделали. (А кто сделал?) Кто там знает»[146]. Характерно, что обычное дорожное происшествие – поломку телеги, да ещё, быть может, строптивость коней – охотно припишут колдовству. В пути ведь случилось…