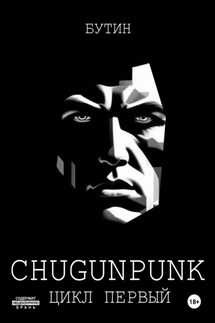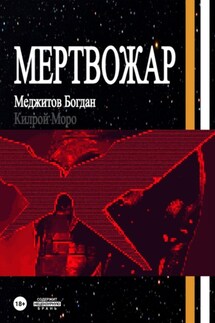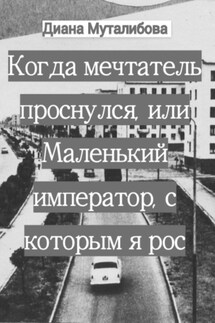Доверие сомнениям - страница 19
Второй строке песни («Где проходили милого ножки») еще удается удержать элегическую растроганность, но это уже не под силу третьей строке «(Позарастали мохом, травою»), где чувство срывается на приглушенный стон, в зазвучное рыдание, чтоб вновь овладеть собой в четвертой строке («Где мы гуляли, милый, с тобою»). «С тобою» – здесь главное, смысл жизни, боль и оправдание ее!..
«Новые времена – новые песни»… Так было, так будет. И горестна здесь укоризна в непочитании уходящего. Но есть здесь и подспудная вера, что у каждого нового времени так или иначе наступает тот миг зрелости – когда душе без старых, вечных, из души народной, песен – невозможно!
Время юности наших отцов, которых уже почти нет с нами. Но вспоминая их песни – мы вспоминаем их. В песне главное духовное наследие, самый бесценный завет. Может, нет ни старых, ни новых песен – есть лишь песни настоящие и поддельные?
Наш паровоз, вперед лети!
Звонкоголосые двадцатые, время нетерпеливой надежды на незамедлительную мировую революцию. И как было не ждать ее каждый день, каждый час: ведь она – само упование юности, сама справедливость и человечность, и красота! Да и ныне она остается такой – сложнее лишь стали пути, вернее препятствия, перед нею… Сколько энергии, бодрости, юного и победительного задора в одной лишь этой, такой, казалось бы, наивной в век космических полетов, строке – о летящем паровозе! Да и паровоз ли это – не та же, немного материализовавшаяся, метафора все того же огромного очистительного пламени революции, о котором писал еще Блок: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем»?
А время народной битвы с фашизмом? Невыразимо сложно и разнообразно его песенное выражение! От, скажем, полной самоотрешенной грозовой патетики и необъятной мощи – «Вставай, страна огромная…» – до, скажем, тихой и лиричной – «На позицию девушка провожала бойца»…
По-своему пишет историю народной жизни – песня. Особый летописец народной души – ее лиризм. Самый интимный подчас, он оказывается и самым достоверным и долговечным. Он осуществляет завет поэзии – «Чтоб в мире утвердилась связь». И прежде всего – связь поколений!
Войне, народу на войне, не до дискуссий, не до споров – что важнее: патетика или лирика? Оказалось, что и та, и другая песня насущны. Солдат лишь – вынужденное, лишь временное состояние человека. Чтоб чувствовать себя частью самоотрешенного целого, нужно себя сперва осознать суверенной частью! То есть, человеческой индивидуальностью. «Мы» не обезличивает «я», а лишь является многократным его усилением. Все личное становится личностью: меняется фактор духовного. Глубоко заблуждаются те, которые полагают, что лирика может «размагнитить» бойца, явиться источником слабости! Наоборот, ее закал особый, она важный исток духовной силы и стойкости бойцовской. Лирика – вещь мужественная. Лирическая песня так же насущна для привала души, как строевая песня для марша! Да и живая душа солдатская – не вносит ли она хоть толику лиризма в любую строевую песню, не «аранжирует» ли она, в свой черед, лирическую песню до уровня ритма и лада строевой песни? Кому довелось быть солдатом, пусть не на войне, пусть даже в мирное время, тот согласится с нами. Об этом сказал и поэт Николай Старшинов:
О, как могуч и как красив мой голос,
Помноженный на сотню голосов!
Так было еще в давние времена солдатских походов, суровых сражений, самоотверженного армейского быта. И кто, например, может уверенно сказать, чего больше – мужественной патетики и строевой бодрости – или все же задушевного щемящего лиризма, пусть и прикрытого беспечной разудалостью, в такой, и ныне незабытой, такой незамысловатой, например, песне солдатской: