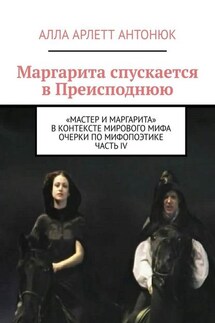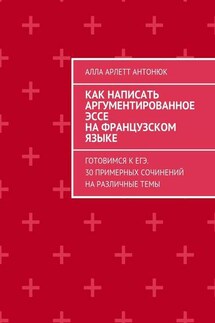Духовные путешествия героев А. С. Пушкина. Очерки по мифопоэтике. Часть I - страница 4
Более того, как указывает О. М. Фрейденберг, в майских обрядах, всегда прослеживается метафоричность «пола» и «поля» – как омонимичность влечения полов (страсти) и созревания плодов («страсти плодов», по определению Плутарха). Эту же метафорику мы можем проследить и у Пушкина, когда он рисует «страсти» Татьяны: «…она мечтой //Стремится к жизни полевой,// К своим цветам, … //И в сумрак липовых аллей, //Туда, где он являлся ей» (7:LIII). Ср. также: «Закидаем вишеньем, //Вишеньем, малиною, //Красною смородиной» («Евгений Онегин»; 3:XXXIX).
Эту же метафору страстей на «жизненных браздах» («пола» и «поля», «жизни» и «жатвы») мы встречаем у Пушкина и в главе Второй «Евгения Онегина»:
Не только в древних майских обрядах, но и в христианских мифах крестная жизнь и смерть архаичного божества метафорично представлена «страстью дерев и плодов» (созревание и жатва). Вспомним библейское яблоко – плод, который вкушает Ева, и библейскую сцену, происходящую под этим древом. Упоминание об этой сцене мы найдем и у Пушкина в «Евгении Онегине»:
«Евгений Онегин» (7: XXVII)
Древняя метафоричность «страстей дерев и плодов» проявлялась не только в обряде венчания невесты, на которую возлагали венок. В архаичной сцене смерти божества мы также можем обнаружить подобную метафору. Не случайна всегда кончина божества именно на кресте. Архаичные корни смерти на кресте – в смерти самого древа и смерти на древе. При этом на божество также возлагали венок (лавровый или его метафорическую противоположность – терновый). Метафору, связанную с терновым венком, можно встретить у Пушкина при упоминании о казни Христа:
«Мирская власть»; 1836
Тема венка (венца) получает контрапунктное звучание у Пушкина, появляясь часто не только при упоминании о венчании брачующихся, но и при упоминании о смерти и погребении героев, например, при упоминании о смерти Дмитрия Ларина, отца Татьяны – главы семейства Лариных:
«Евгений Онегин» (2: XXXVI)
Тема «венка (венца)» обыгрывается Пушкиным также и в главе Седьмой «Евгения Онегина» в связи с упоминанием о смерти Ленского и описанием его могилы, находившейся у двух сосен, на ветвях которых качался «таинственный венок» («две сосны» – также архетипический образ, возможно, восходящий к двум кедрам на Синае):
«Евгений Онегин» (7:VII)
За описанием могилы Ленского, здесь же, в следующей строфе, мы найдем у Пушкина ещё один – противоположный похоронному – обряд венчания, и под венцом – Ольгу, венчающуюся пред алтарём c новым женихом:
«Евгений Онегин» (7:VIII. IX. X)
Такое контрапунктно выстроенное чередование эпизодов свадьбы и похорон является сюжетообразующим у Пушкина не только в «Евгении Онегине», но и в других его произведениях. В «Гробовщике», например, за описанием свадьбы-юбилея сапожника Шульца сразу же следует сцена похорон купчихи Трюхиной. При этом обе сцены обставлены сходными обрядовыми элементами. Сцена свадьбы сапожника Шульца («Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы») имеет некоторый параллелизм в последующем эпизоде похорон, где дано описание другой «невесты» – новопреставленной купчихи Трюхиной («еще не обезображенной тлением»), возлежащей на столе («как дань, готовая земле»): «Все окны также были открыты; свечи горели; священники читали молитвы».