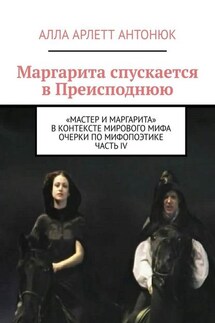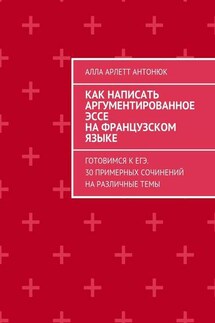Духовные путешествия героев А. С. Пушкина. Очерки по мифопоэтике. Часть I - страница 5
Архетипический мотив свадьбы, «завуалированной» под похоронную процессию, как мы это видели у Богдановича в «Душеньке», можно было встретить в русской литературе как приём ещё задолго до Пушкина. Но куда же пролегал этот путь архаичной невесты в сопровождении многочисленной процессии?
Чтобы ответить на этот вопрос, потребуется реконструировать этот древний эпизод, а для этого необходимо снова обратиться к Богдановичу, у которого об этом совершенно определенно сказано, что это было – шествие «за тридевять земель», т. е., в тридевятое царство, – которое, собственно, и есть преисподняя (некий перифраз Рая во всём его обратно-метафорическом единстве с Адом):
Богданович И. Ф. «Душенька» (1778)
У Пушкина свадебный путь духов среди мрачной долины, который мелькает в «Бесах» (1830), скорее всего также пролегает где-то в пограничной зоне, на подступах к пространству потустороннему. Венчание в «Гусаре» («Жида с лягушкою венчают») – это, с одной стороны, какой-то его индивидуальный миф о венчании ведьмы (лягушки) и Вечного жида (вечного скитальца, обречённого на муки бессмертия). С другой стороны, как известно, Царевна-Лягушка – это заколдованная принцесса, персонификация женской красоты (души), обречённой на существование в лягушачьей шкуре (шагреневой коже).
В фольклорно-мифологической традиции Душа (Психея) спрятана в безобразную оболочку, именно с той целью, чтобы отпугнуть Смерть и, введя её в заблуждение, выиграть таким образом битву с ней, а также отвести её от претензий на жениха, ведь Смерть, на самом деле, – претендент на жениха на любой свадьбе.
В этом древнем сюжете есть место также древнему мотиву законспирированности жениха.6 В нём обман всегда инициирован именно с той целью, чтобы получить возможность невесте воссоединиться непременно только с предназначенным ей женихом.
В этом древнем мифе есть также отражение глубинного осмысления жизни как венчания смерти и бессмертия. А «таинственный венок» («новый венец») – это то таинство, которое символизирует тонкую связь (венчание) жизни и смерти как своеобразное путешествие «через тернии к звездам».
Картины «шабашей» и «адских видений»
Фантазии Пушкина в манере Данте и Гёте
«В Геенне праздник…»
«Наброски» 1821
Ещё Набоков В. В. заметил, что пейзажи Онегинских и Ларинских усадеб – прототипические и представляют собой некую «экскурсию по антропоморфическим парадизам». Пейзажи пушкинских холмов и рощиц, многочисленных идиллических ручьёв, лепечущих или бьющих ключом (Набоков, с. 215), – есть ничто иное как снятая Пушкиным карта странствий по некоему ноуменальному миру. И как заметил Набоков, пейзажи представляют собой, например, идеализированную Аркадию (Эдем) – место пребывания Бога Жизни и Смерти, – картины которых были усвоены Пушкиным, скорее всего, по мнению Набокова, из Вергилия и Горация.
Если в ноуменальном мире есть некое «чудное царство», уготованное от создания мира для избранных, – в виде Райской долины, то есть там и другая, противостоящая ей местность, – долина под названием Геенна. Следуя топонимике древних мифов, Раю и Геенне нет ни начала, ни конца. Однако, их отделяет друг от друга непроходимая бездна. Противопоставление сияющего Эдема с его нежными ангелами – мраку адской бездны мы можем видеть у Пушкина в стихотворении «Ангел» (1827):