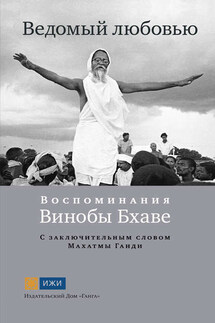Дурни и сумасшедшие. Неусвоенные уроки родной истории - страница 19
По-нашему, тут изумляться нечему. Культурный русак вообще восприимчив и остро интересуется тем, что на Западе пишут, думают, говорят. Но это вовсе не потому, что в нашем отечестве скучно пишут, мало думают и гадости говорят. Русский человек оттого внимателен к веяньям со стороны Бискайского залива, что он всемирен, по определению Достоевского, что он отчасти немец, англичанин, итальянец, голландец, испанец и чуть француз. То есть гражданин мира он в не меньшей степени, чем русак. Разумеется, это уникальное качество открылось в нас в петровскую эпоху, когда русские дорвались до европейского знания, от которого в течение пяти столетий они были отсечены. Только в конце XX века мы объелись Европой и охладели – отчасти по той причине, что там давно скучно пишут, мало думают и гадости говорят. Вдруг нам стало понятно, что в художественно-культурном отношении нынешняя Европа – это глухая провинция, этакий Весьегонск на французский лад.
Так вот, беседовал француз с русскими дамами об изящной словесности и оказалось: мы в курсе движения французской литературы, а де Кюстин о нашей знает не больше, чем о Луне. Ну, Пушкина пару стихотворений он прочитал в переводе и нашел, что тот подражает Стендалю и де Мюссе. Ну, про Лермонтова ему рассказали чувствительный анекдот. А про Гоголя, Крылова, Жуковского, Карамзина, Белинского, Чаадаева он даже и не слыхал.
А ведь Гоголь – это столп европейской литературы, начало ее «золотого века», это писатель, открывший пятую сущность слова, выделивший, так сказать, литературное вещество. Гоголь – тринадцатый апостол, через которого на словесность белой расы сошла высшая благодать. И уж во всяком случае гоголевское наследие не идет в сравнение с пустыми эпопеями Бальзака и сказками для детей, которые сочинял Гюго.
И вот на тебе: Бальзака в России знают от первой до последней строки, Гоголя во Франции не знает ни одна собака, – а еще цивилизованная страна… Между тем если бы Бальзаку довелось прочитать хотя бы одних «Старосветских помещиков», он бы навсегда бросил свое перо.
Далее де Кюстин пишет: «Из религиозных разногласий возникнет некогда социальная революция в России, и революция эта будет тем страшнее, что совершится во имя религии». Провидцем оказался француз: если считать марксизм-ленинизм религией, то так оно именно и стряслось.
А иначе и нельзя трактовать сие романтическое учение, поскольку основано оно было исключительно на вере – в пролетариат, мировую революцию, Россию-мессию, непогрешимость вождей, победу коммунистического труда. И свои святые были у большевиков, и таинства вроде превращения количества материальных благ в качество нового человека, и обряды, и чудеса. Разве не чудо, что эру космических сообщений открыла страна, в которой невозможно было купить обыкновеннейшей колбасы?..
Вот какое дело: если марксистско-ленинская религия победила, если она владела умами людей без малого столетие, то она должна была опираться на своеобразный человеческий материал. Иначе говоря, победить такая религия могла только в России, где вообще веруют охотно, где народ не глубоко религиозен, а широко. Глубоко религиозный человек до последнего издыхания стоит на том, что «несть власти, кроме как от Бога», а широко религиозный еще верует в двуперстное знамение, нерукотворные иконы, любовь с первого взгляда и тринадцатое число. Такой человек легко приобщается к новой вере, но и расстается с ней такой человек легко. Поэтому Россия – чреватая, неуравновешенная страна.





![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)