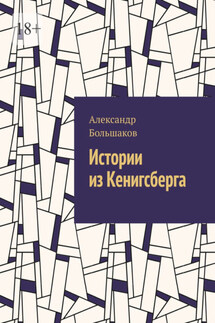Душа и взгляд. Баллады в прозе - страница 55
не уступает ему и ответный взгляд Габена, который тоже не хочется описывать в словах, —
разве что мудрый урок, в нем нам всем ненавязчиво преподнесенный, а именно: провожая близкого человека в смерть, все-таки лучше не показывать слез, —
иначе получается, что ему хуже, чем нам, а такого по определению быть не может, а точнее, быть не должно.
Есть актеры, во взглядах которых сквозит нечто «не от мира сего»: быть может, это и есть самые интересные мастера своей профессии, на Западе их не больше десятка, а в русскоязычном актерском пространстве, пожалуй, один-единственный – Иннокентий Смоктуновский, —
среди публики и критики у него статус «небожителя», однако коллеги из Ленинградского БДТ, где он играл роль своей жизни: князя Мышкина из «Идиота» Достоевского относились к нему, как он сам признавался, с некоторым раздражением и даже подчас враждебно, —
только ли одна недоброжелательная зависть? а может, еще и подсознательная реакция на то, что Смоктуновский не был с ног до головы гениальным актером – как, например, Евгений Евстигнеев – но у него имелась гениальная струнка, быть может, одна-единственная, —
на ней-то он и въехал в лицедейское бессмертие, —
да, Гамлет, кн. Мышкин и Порфирий Петрович – это на высочайшем уровне, тут и спорить нечего, но все три роли, если присмотреться, опять-таки озвучены той самой «единственной и единой на потребу» заветной стрункой, —
для прочих ролей требовались иные лады и тембры, не знаю, были ли они у Смоктуновского: может, и были, а может, и не было, —
как бы то ни было, по моему зрительскому восприятию, актер настолько оказался заворожен собственной – и действительно, уникальной на фоне тогдашнего российского театра и кино – манерой игры, что незаметно для себя приобрел черты монументальной и почти маниакальной самоуверенности, которая и стала, подобно двойнику, всегда и везде сопровождать отныне его игру, —
отсюда то очень тонкое и все-таки очень дурное заигрывание со своей ролью, кокетничанье с ней, как бы подтрунивающее наблюдение над ней в зеркале и постоянное подмигивание ей в духе: «как же бесподобно я тебя играю!», —
и, по-моему, не заметить этого нельзя: тем удивительней, что, насколько мне известно, никто до сих пор не осмелился высказаться открыто и публично на этот счет.
Мне этот феномен, оставляя пока в стороне вопрос о масштабе, очень напоминает критику Львом Толстым шекспировского «Короля Лира»: вообще-то наш величайший прозаик обладал безукоризненным художественным вкусом и именно по этой причине выбрал для своего разбора не «Макбета», не «Отелло», не «Ромео и Джульетту» и тем более не «Гамлета», а как раз «Короля Лира», где, действительно, бессмысленной тарабарщины, но со скрытым в ее глубине великим замыслом, не счесть, —
итак, и там и здесь гениальность, достигающая границ человеческого духа, но и следующие за ней, как тень, провалы в искусственную риторику, несоответствие слова, жеста и поступка, вычурность и преувеличенность диалогической канвы, и как следствие: сдвиг намеченного крупными мазками характера из жанра литературы (или кино)в жанр музыки, —
сближение, которое Смоктуновскому делает честь, однако, помимо трех вышеупомянутых ролей, прочие роли его в русском кино – от «Берегись автомобиля» до «Очей черных» и дальше – оставаясь совершенно уникальными и неповторимыми, как-то странно томят невозможностью полного слияния: то ли актера с ролью, то ли самой роли с российской действительностью, —