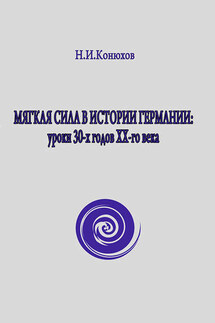Дыхание истории - страница 50
Так, Китай неоднократно проигрывал военные кампании степным народам, но затем потихоньку подчинял их себе, включая культурные и экономические рычаги. Как показывает история, опора на «мягкую силу» позволяет подготовить и реализовать наиболее эффективный ответ. Вроде бы проиграли войну и подчинились, но проходит некоторое время, страна встаёт с колен и становится сильнее своих победителей. Японии и Германии после Второй мировой войны – наглядный пример таких исторических изменений.
На такие трансформации в первую очередь способны нации с великим прошлым, в коллективном бессознательном которых хранится память о победах после, казалось бы, разрушительных для страны поражений. Им проще найти правильные решения в своём бессознательном и встать с колен, опираясь на свой народ, то есть через своё собственное развитие. Только став сильнее народ обретает возможности наказать обидчика. Но как он будет действовать зависит и от его архетипа, и от обстановки, и от того, кто им правит. Резонатор вряд ли пойдёт на военное решение. К такого рода шагам склонен скорее пострезонатор с проблемами восприятия движения в коллективном бессознательном. Ситуация усугубляется, если он к тому же слабая личность, ищущая возможность как-то самоутвердиться.
Поэтому форма проявления закона обратного движения зависит от многих факторов, действие которых проявляется циклически, что и приводит к формированию ассиметричного ответа. Л. Гумилев неоднократно писал о цикличности социальных процессов и об эффекте возврата как бы к исходной точке развития.
«Законы природы в общих своих формах едины для разных уровней структурной организации материи, хотя и проявляют себя через многообразие. Этот исходный принцип диалектического монизма получил блестящее подтверждение в синергетике и этнологии. Поэтому множества уровней: от атомного и молекулярного (у Пригожина) до популяционного (у автора этих строк). С последним обстоятельством связано и значение общей теории систем для географии. Наблюдаемая в природных процессах вспышка энергии (отрицательной энтропии) и последующей ее растратой представляет собой универсальный механизм взаимодействия системы со средой (здесь речь, конечно, идёт о создании в любой системе избытков количества движения -авт.) Эта универсальность, доказанная Пригожиным для микрообъектов, в географии описывается как движение на популяционном уровне. Иными словами, и на биосферном уровне развитие осуществляется не эволюционно, а дискретными переходами от равновесия к неравновесию и обратно. Возникающая структура всегда ведёт себя иначе, чем прежняя, уже растратившая первоначальный импульс и близкая к неравновесию со средой. Значит, импульс – начало процесса диссипации, ведущей систему к неизбежному распаду.
В связи с этим напрашивается мысль восточной хронософии о цикличности процесса, подобном смене времён года или фаз Луны. Сыма Цянь в I в. до н.э. сформулировал тезис исторического развития так: "Конец и вновь начало". Однако дело обстоит сложнее: цикличности в биосферных процессах (видообразовании, этногенезе) не наблюдается. …Этот тип взаимодействия отвечает не ритму (повторению), а инерция эксцесса, при котором изменение потенциала описывается сложной кривой подъёмов, спадов и зигзагов. Эта кривая сгорающего костра, вянущего листа, взрыва порохового погреба. Разница здесь лишь в продолжительности процесса, а этногенезы длятся от 1100 до 1500 лет, если их не нарушают экзогенные воздействия, например геноцид при вторжении иноплеменников или эпидемия.