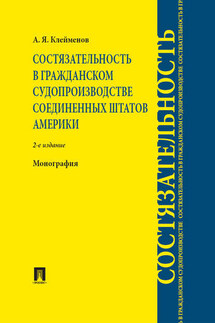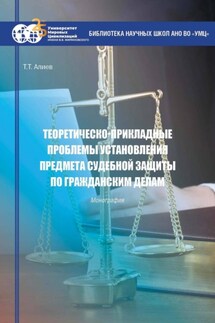Электронное гражданское судопроизводство в России: штрихи концепции. Монография - страница 27
Переходя к краткой характеристике определений правосудия, сформулированных отечественными авторами в современный период развития процессуальной науки, с благодарностью воспользуемся обстоятельным их обзором, приведенным в статье Н.А. Громошиной «Судебная власть и правосудие в гражданском судопроизводстве»>193.
По мнению автора, в вопросе о существе правосудия и его содержании за последнее десятилетие в литературе обозначились две тенденции. Первой из них можно считать продолжение советской традиции определять правосудие через материализованную в объективной действительности деятельность судов. В то же время современные последователи этой традиции формулируют более содержательные определения, содержащие перечисление несравненно большего количества отличительных признаков правосудия от иных видов государственной деятельности>194.
Вторая отмеченная Н.А. Громошиной тенденция заключается в рассмотрении современными процессуалистами правосудия исключительно во взаимосвязи с судебной властью. Широкий спектр мнений в рамках этой тенденции может быть систематизирован следующим образом. Правосудие – это:
• основная функция судебной власти (А.В. Цихоцкий>195, С.К. Загайнова>196);
• цель судебной власти и совокупность определенных принципов (С.Л. Дегтярев)>197;
• синоним справедливости (М.А. Фокина)>198;
• поиск права (Г.А. Гаджиев)>199.
При ознакомлении с приведенным перечнем бросается в глаза качественная новизна бытующих в современной науке точек зрения на само существо, правосудия и внутреннюю (смысловую) форму этого слова. По сравнению с советскими современные представления о правосудии не исключают из поля зрения и изучения его абстрактное проявление, ранее не рассматривавшуюся функциональную (идеальную) сторону рассматриваемого явления.
С одной стороны, нет оснований с этим не согласиться, поскольку качество идеи, принципа, некоего ожидаемого результата со всей очевидностью правосудию присуще. Однако, думается, впадать в крайности, двигаясь в этом направлении, тоже не стоит. И вот почему.
Охотно соглашусь с тем, что «правосудие может быть определено как существующее лишь постольку и до тех пор, пока протекает судебная деятельность, т. е. онтологически правосудие не существует»>200. Однако это вовсе не означает, что не существующее вовне правосудие не оставляет своих «облагораживающих следов» на осязаемой материи.
Иначе почему, например, отдельные судебные акты не признаются правосудными, в то время как другие приобретают и бессрочно сохраняют свою общеобязательную законную силу? Полагаю, именно внешним проявлением своей правосудности (о которой можно судить по тексту судебного акта на материальном носителе) последние обязаны своим высоким званием – акта правосудия.
Пытаясь опровергнуть свой исходный тезис, возьмем за основу противоположный. Так, в заключение упомянутой выше статьи Н.А. Громошина приходит к следующему выводу: «Понимание правосудия как должной деятельности (полифункции) (курсив мой. – В.П.) в отличие от деятельности реальной, т. е. по конкретным делам, дает основание для выдвижения многоплановых характеристик и оценок правосудия. Прежде всего оправдан подход к оценке правосудия, как нормативно закрепленной функции судебной власти. Иными словами, объектом анализа будут выступать правовые нормы, определяющие правосудие во всем его богатстве. Но существует, причем не менее важный, другой срез –