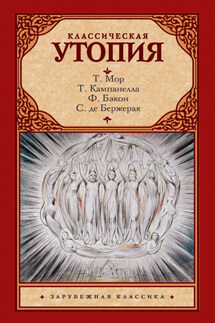Еще шесть месяцев июня - страница 12
Мина показывает мне язык. Не припомню, чтобы она хоть раз так делала раньше.
– Вообще-то Мина собирается в Йель, – говорю я.
– Я же сказала, – возражает она, – что буду учиться там, где захочу.
– Да, черт побери! Может, Мина хочет устроить бунт? – говорит Куинн. – Пошлет к чертям альма-матер и наконец заживет полной жизнью!
– Вот именно, – соглашается Мина. – Знаешь что, Куинн? За это ты можешь включить свою музыку.
– Мы должны слушать мою музыку, – ворчу я. – Это моя машина.
– Это машина твоей мамы.
Куинн врубает музло, и вместо того, чтобы отчитать его и приказать не кричать, Мина открывает окна сзади и подпевает:
– О, детка, у тебя есть все, что мне нужно, но ты говоришь, что он просто друг. – Она поворачивается ко мне, явно простив. – Но ты говоришь, что он просто друг[13].
За что она меня простила? Да плевать. Прохладный воздух наполнен чем-то необъяснимым, словно сейчас начало года, а не конец. Мина ведет машину, подняв одно колено, Куинн поет во всю глотку, раскинув руки в стороны и распластавшись на заднем сиденье, и воет, как волк на луну. Мимо проносятся уличные фонари, то освещая наш маленький мир, то снова оставляя нас в темноте, как в старом кино, как будто кто-то переключает затвор камеры, и два моих самых старых школьных друга едут со мной домой.
6
Мина
На мой восьмой день рождения папа подарил пару черных высоких конверсов, потому что я увидела их на рекламном щите по дороге домой и сказала, что их могла бы носить шпионка Гарриет[14], книжку про которую я тогда постоянно перечитывала. Ее жизнь была полна приключений, мода ее не интересовала, ей было важнее решать поставленные задачи. А потом, через месяц, папа погиб в аварии на том же самом шоссе. Это произошло за милю[15] от того рекламного щита и съезда к нашему дому. У другого водителя случился сердечный приступ, так что никто не был виноват. Это было очевидно.
Я не собиралась снимать эти кеды – ни на похороны, ни во время первой панической атаки, когда маме удалось стянуть с меня одежду и засунуть под душ, чтобы я успокоилась, и, конечно, я носила их в школу. Когда я в первый день вошла в них в кабинет нашего третьего класса и у Кэплана Льюиса, моего главного мучителя, оказались на ногах точно такие же кеды, я сразу поняла, что это не сулит ничего хорошего. Куинн Эмик тут же встал на стул и, показывая пальцем, объявил, что я ношу мальчишескую обувь, потому что у Кэплана такая же. Все засмеялись. Поначалу я продолжала носить их в школу, чтобы одноклассники думали, будто мне плевать, а потом, через две недели, мне и правда стало плевать. Потому что папа умер. Я носила эти кеды каждый день. Одноклассники перешептывались, что я, наверное, не снимаю их, даже когда ложусь спать, а потом, посмеявшись, они возвращались к своим делам.
К сожалению, новость о гибели отца распространилась очень быстро. Он был одним из трех педиатров в Ту-Докс. Почти все мои одноклассники знали его в лицо. Думаю, многие родители использовали эту новость как возможность в мягкой форме рассказать детям о смерти. Ведь это было не то же самое, как когда умирали их бабушки или дедушки. Это была трагедия. Помню, как многие взрослые тогда использовали именно это слово. По-моему, они считали, что я все равно не пойму, в отличие от мамы. Но тогда мама периодически впадала в ступор, несколько недель подряд не снимая белую ночную рубашку с голубыми цветами – ту самую, которую она надела в тот день, когда пришла домой с работы после трагичного звонка, а у меня был отличный словарный запас.