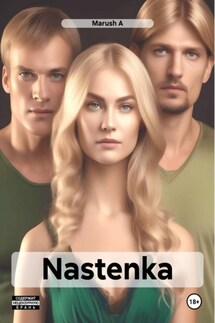Если я буду нужен - страница 13
Зяблик, на время разговора словно растаявший в воздухе, потянул Алину за рюкзак:
– Пойду я. Ничего не хочешь мне сказать?
– Не знаю, – растерялась Алина. – Ну… платок твой… постираю, отдам.
– Это не ответ.
Он развернулся и сделал шаг. Потом другой, третий… На пятом Алина заволновалась, скрутилась тугим узлом. Крикнула ему в спину:
– Кто ты такой?!
Не оборачиваясь, он ответил:
– Зяблик.
И побежал по присыпанному желтеющими листьями асфальту.
Глава 3
Старые лица
Мне – шестнадцать
Под дверью Берлоги чернела дыра. Кто-то рыл землю – широкими гребками, торопясь, захлебываясь. Рыл недавно, и часа не прошло. Однако не дорыл. То ли спугнули его, то ли надоело. Я снял замок и потянул ручку. В Берлогу хлынул свет. Так и есть – никаких следов. Да и кто мог пролезть в такую щель? Разве что собака.
Собаки здесь, в Брошенном краю, не приживались. Осталась только одна. Владел ею Хрящ, тип во всех отношениях гнусный. Он был вороват, груб и злобен, впрочем, в злости и грубости я ему не уступал. Враждовать мы не хотели, а дружить, пожалуй, не могли. А потому держали нейтралитет, уже долгих шестнадцать месяцев.
И вот теперь Хрящевая собака подкопалась под мой сарай. Нехорошо.
Я любил свою Берлогу, все в ней было устроено под меня – и крепкий выскобленный стол, и топчан с полосатым матрасом, такие бывают в детских лагерях, и старые вещи, которые помнят всех владельцев. Всех, даже тех, что позорно сбежали в большие города и чуть менее позорно – на тот свет. В Берлоге я почти не жил. Если, конечно, считать за «жил» то место, где человек пережидает темноту. Ночи мои принадлежали матери. Едва ли она замечала дневные уходы и возвращения, но в сумерках начинала ждать. Сидела за швейной машинкой, укладывала строчку за строчкой и ждала. Ныть – не ныла, но чернела глазами и пела тонко, как стонала. Я знал это и шел к ней, запирая Берлогу на висячий замок.
Со вчерашнего дня осталось немного печеной картошки. Неплохая оказалась картошка, соседка притащила матери мешок – за то платье из голубого шелка. Ткань была как вода, почти прозрачная. Я мыл руки в этой ткани, я почти пил ее и не хотел знать, что с ней будет потом. Через два дня ткани не стало. Зато соседка постройнела, а слабый бюст приобрел новые формы. Такие вещи мать умела делать, как никто.
Я сдирал с картошки бурую кожицу, и пальцы пачкались золой. Хотелось закопать яму, но я ждал Хряща. В конце концов, был уговор – никаких собак на моей земле. Могла, конечно, приблудная забежать, но я уже винил Хряща и делать ему поблажек не собирался.
Он явился не сразу – картофельной шелухи нападало изрядно. Постоял, почесал затылок, оскалил кривые зубы. Вроде как поздоровался. Я поднялся, и приземистый Хрящ уперся взглядом в мой подбородок. Он был не намного старше меня, но давно уже не рос, разве что вширь. Впрочем, не толстел, а только креп и в драке, наверное, мог бы сломать мне шею.
Облезлый пес, похожий на волка, покрутился у его ног и улегся в пыльную траву. Вот он, преступник! Злиться я перестал, но дать Хрящу урок еще не передумал.
За спиной у него терлись двое. Дешевые малолетки с рынка. Один из них ковырялся в носу, второй пинал банку из-под кильки. Убогая свита. Так я Хрящу и сказал.
– Убогая свита, Хрящ.
– Убогая, Зяблик, убогая. Да дело не твое.
– Не мое, – согласился я и кивнул на дверь Берлоги, – а вот это мое, Хрящ.
– Подкоп, – хмыкнул Хрящ.