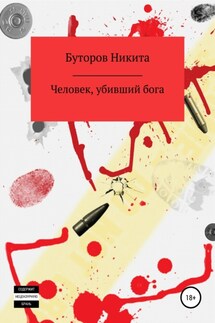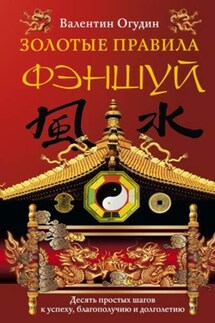Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе - страница 14
Через несколько десятилетий Козинцев писал о Шостаковиче: «Именно из музыки к «Новому Вавилону» началась вся его музыка в кино. Принцип ее построения: не иллюстрация, а внутренняя драматургия (контраст вместо подчеркивания и т. д.»[53]. Несколько позднее, в буклете, выпущенном к премьере спектакля «Король
Лир», поставленного Григорием Козинцевым в Ленинградском БДТ им. Горького в 1941 г., Шостакович опубликовал статью, определявшую его творческие принципы в отношении музыкального оформления как театральной постановки, так и кинопроизведения: «.. не дело композитора заниматься музыкальным иллюстраторством – с этим легко могут справиться и работники нотной библиотеки». Задача же композитора – «изложить языком музыки свое понимание основной идеи, основной коллизии той или иной трагедии, свое понимание и ощущение тех или иных персонажей»[54].
Важно отметить, что при всем новаторстве музыкального языка Шостаковича (в сравнении с существовавшей тогда киномузыкой), при всем огромном количестве и разнообразии используемого музыкального материала и – главное – ощущении другой энергетики нового времени и нового искусства, композитор все-таки сохраняет общий симфонический (драматурги-чески-непрерывный) подход к развертыванию музыкального тематизма – то есть остается на философском основании классико-романтического канона как антропоцентричной (переводимой в образно-тематические, этические, психологические и пр. термины) системы развития музыкального материала. Аудиовизуальный контрапункт в данном случае остается на уровне контраста визуального и звукового (мысленно и чувственно представимого) образов, задача которого – усилить воздействие кадра на зрителя, дав ему ощутить «превышающий» видимость смысл происходящего. При этом даже весьма семантически сложная контрастность образов вырастает внутри пространства произведения, то есть мы можем найти хотя бы отдаленные (мотивные, аллюзийные) связи самого различного музыкального материала со зрительными образами, представленными на экране.
Именно такой вид контрапункта как образно-тематической контрастности получил в дальнейшем наибольшее распространение в кинематографе. Режиссеры до сих пор часто применяют его, например в картинах с трагическим сюжетом. Особенно сильный эффект производит использование внутрикадрового контрапункта, когда звуковая контрастность дает самопроявитъся образу абсолютного зла: в картине «Иди и смотри» (реж. Э. Климов, 1986) в момент сжигания в заброшенном храме жителей белорусской деревни фашисты заводят патефон с веселыми довоенными песенками («Моя Марусенька»), которые заглушают отчаянные крики обезумевших людей. Навсегда врезается в память эпизод картины «Судьба человека» (реж. С. Бондарчук, 1959), где прибывающих в концлагерь военнопленных встречает духовой оркестр, исполняющий знаменитое в начале тридцатых годов танго «О, Донна Клара»[55]. Звуки этого танца продолжают звучать за кадром, когда у матерей отнимают детей, когда поток обреченных евреев – ведь музыка написана евреем! – исчезает в газовой печи. «Danse macabre» продолжается и когда кадр прорезает труба крематория с валящим из нее черным дымом – здесь к духовым инструментам добавляется совсем уж невозможная гавайская гитара… В фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние» (1984–1986) показан Храм Богородицы VI века, превращенный в лабораторию высоких частот.