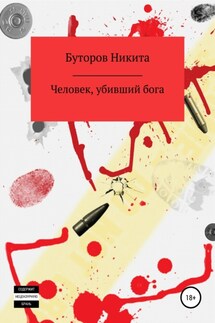Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе - страница 13
Эволюция аудиовизуального контрапункта
Эйзенштейн был далеко не единственным кинематографистом, которого волновали проблемы соотношения звука и изображения в нарождающемся звуковом кинематографе. Эффекты, которые можно извлечь из звуковой асинхронности, были замечены практически сразу многими проницательными кинодеятелями. Рене Клер в статье «Искусство звука» (1929) сделал по этому поводу много заметок, приведя в качестве удачных примеры именно асинхронного использования звука в некоторых ранних звуковых фильмах. Один из резюмирующих тезисов Клера гласил: «Наибольшего эффекта можно добиться не при одновременном, а при раздельном использовании визуального объекта и производимого им звука. Очень может быть, что этот первый урок, преподанный нам в муках рождения нового приема, завтра станет законом этого самого приема»[48].
Несколько позднее Бела Балаш писал: «Предоставляемые звуковым кино возможности слышать пространство, не видя его, наблюдать интимнейшие сцены, снятые крупным планом, и одновременно слышать звуки, доносящиеся со всего огромного пространства, позволяют применять приемы контрапунктического воздействия, которыми кино пользуется редко и которые оно вообще едва ли когда-нибудь использовало в полной мере»[49].
Мысли у режиссеров, искавших нетривиальные способы звукового решения фильма, в общем, были схожими. Григорий Козинцев писал о работе с Шостаковичем над музыкой к фильму «Новый Вавилон» (1928): «Мысли были общими – не иллюстрировать кадры, а дать им новое качество, объем; музыка должна была сочиняться вразрез с внешним действием, открывая внутренний смысл происходящего. Чего только не было напридумано! «Марсельеза» должна была переходить в «Прекрасную Елену», большие трагические темы контрастировать с похабщиной канканов и галопов. Работа во многом предваряла звуковое кино: экран менял свой характер…Звук вошел, на этот раз реально слышимый, в ткань фильма. Музыкальная тема военного нашествия – еще далекая, негромкая – слышалась на кадрах журналиста, читавшего депешу; она становилась отчетливой, когда скакали всадники, но силу она набирала, только когда на экране была пустая танцевальная площадка: одинокий, вдребезину пьяный человек выделывал какие-то глупые антраша, а в оркестре грозная мощь разрасталась, переходила в гремящее тутти. Было и обратное сочетание: солдат-убийца стоял на разгромленной, объятой пламенем улице, а издалека доносился, усиливался томный и светский версальский вальс»[50].
По свидетельству режиссера, «порочная» музыка Шостаковича вызвала в то время скандал настолько громкий, что оркестровые дирижеры кинотеатров Ленинграда, в которых демонстрировался фильм, собирались на акции протеста.
Интересен комментарий самого Шостаковича к своей работе над «музыкальным сценарием» «Нового Вавилона», опубликованный в «Советском экране» в 1929 г.: «…Сочиняя музыку к «Вавилону», я меньше всего руководствовался принципом обязательной иллюстрации каждого кадра. Я исходил главным образом от главного кадра в той или иной серии кадров.<…> Многое построено на принципе контрастности. Напр., солдат (версалец), встретившийся на баррикадах со своей возлюбленной (коммунаркой), приходит в мрачное отчаяние. Музыка делается все более ликующей и, наконец, разряжается бурным «похабным» вальсом, отображающим победу версальцев над коммунарами»