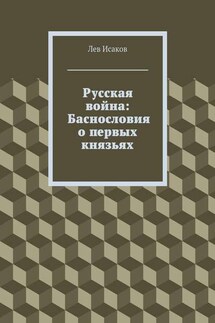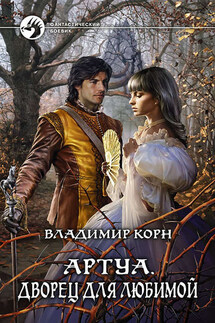Этногенез Руси и славян. Давние памяти - страница 7
2. НЕСКОЛЬКО ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ: Гипотезы Френа, что имя царя булгарского Балтавар (***) следует читать Балтимар (***), Владимир, и Сенковского, что Шальки Балтавар следует читать Василько (Силько) Владавац – известны. Для объяснения имен Блтвар или Блтваз и Слки или Шлки можно еще привести другие чисто славянские имена, так напр. для первого: Балдыж, Балдимер, Болдырь и Болебор, а для второго – Салка, Салко, Селак, Селко, Силек, Силка, Силко, Слуго, Сулко, Шило (уменьш. Шилько), Шолога, Шульга и т. д. Для имени Алмс или Алмш можно также привести имена Алмаз Альм (Альмуша), Ольма и т. д..
ПОПРАВЛЯЕМ КОММ. 2. Открытие Именковской культуры 2—7 в. снимает вопрос о том о раннем населении Нижнего прикамья – это были славяне-именковцы, в земли которых после разделения державы гуннов-кутригуров Кубрата между его сыновьями вторглась орда Серебряных Булгар в нач. 7 в. Но дойдя до Левобережья Камы они так и не пересекли её – славянское население ибн-Фадлана несомненно пребывало по обе стороны реки, и остаётся предполагать, оказалось достаточно сильным и сплочённым, чтобы остановить рост тюркизирующейся Волжской Булгарии на север. Было бы странным не предполагать в связи с этими событиями и вспышки мощной славянской миграции на Север, Северо-Запад и Запад. Западное направление сейчас уже отчасти признаётся – два других остаются в тени теоретического недомыслия, хотя чего бы легче: прыгнул в лодку и вот он, километр сберегающей воды за тобой.
М – да, знание первоисточников не по первоисточникам рождает много печалей…
Как и недомыслие в них!
Вот фрагмент из ибн-Фадлана о народе «вису», в котором усмотрели «весь»: «Главная пища их – просо и лошадиное мясо, не смотря на то, что в их стране много пшеницы и ячменя. Каждый, кто сеет что нибудь, берет это себе, царь же ничего не получает из этого; только они дают ему по бычачей шкуре с дому, а когда он приказывает отряду отправиться в набег на какую-нибудь страну, то и он получает часть добычи. У них нет другого масла, кроме рыбьего масла (жира), которое они употребляют вместо оливкового и кунжутного масла; посему они бывают сальны. Все они надевают калансувы. Когда царь их выезжает, то он бывает один, без мальчика (пажа) и без другого проводника. Когда он приходит на рынок. то каждый встает, снимает калансуву с головы и берет ее под мышку, а когда он проходит, они надевают калансувы на головы. Также все, кто входит к царю, малый и большой, даже его дети и братья, лишь только увидят царя, снимают калансуву и берут ее под мышку, затем поворачивают к нему головы свои и садятся, затем встают и не садятся, пока он не велит. Каждый, кто садится пред ним, садится на колени, не вынимает калансувы своей и не показывает ее, пока не выходит от царя, тогда надевает ее.» … Право, это же едва ли не царь Алексей Михайлович Тишайший со своими думцами, вдруг угнездившиеся на родо-племенной демократии, в условиях тайги пробавляющейся пшеничкой! Если подобрать, подтесать, сравнить с тем, что поблизости, то налицо лишь один прототип: русский/mille pardon,«славянский»/ мужик, вопреки всем ландшафтным зонам тянущий соху, лошадёнку и коровёнку вплоть до Заполярья; по необходимости на лодчонке – по пристрастиям с бреденьком (впрочем и кушать хочется).
Следует признать, по отсутствию фиксирования гласных в арабской письменности, лингвистическую неразличимость «весь» и «вису», но диковинное несовпадение нарисованного социально-хозяйственного уклада известной средневековой финно-угорской практике как – то уж очень выразительно.