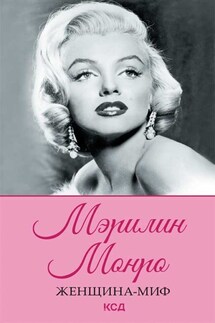Эйзен - страница 53
Немецкая «Ллойд», закупающая фильмы для проката в Германии, контрактовала двадцать пять русских лент – но не «Потёмкин».
Эйзен страдал, собирал газетные вырезки и строчил Мама́ длинные письма – в трудные минуты его пробивало на откровенность.
Золотой ключ к искусству не был подобран, увы. Ни колода типажей, ни беспримерное насилие на экране, ни умопомрачительный монтаж (тысяча двести восемьдесят склеек!) – ничто из этого не обернулось философским камнем. Да, приёмы работали, но оставались не более чем приёмами, наравне с другим инструментарием кино. А Эйзенштейн оставался не более чем режиссёром, наравне с другими мастеровыми цеха.
Юное искусство кино, которое и искусством-то ещё называли едва ли, обещало пионерам так много! Позади не было ничего – ни веков эволюции мастерства от наскальных царапин и до сикстинских фресок, ни строгих отцов от Гомера и до Бальзака, ни сонма чужих работ от месс и реквиемов и до джаза. Не было основ. Не было правил. Не было конкуренции. Впереди же было всё: абсолютная свобода творца и абсолютная слава создателя, на века вперёд. А главное – абсолютная власть над зрителем. Кино обещало так много, но дало так мало.
Экран искрит и трепещет от явленных на нём чувств – а зритель, погалдев на энергичных сценах, продолжает обжимать подругу и плеваться лузгой. Или уходит посередине. Или вовсе берёт билет не на серьёзную фильму, а на сказку о разбойниках, примитивно и дорого снятую. А спрятавшийся за колонной режиссёр остаётся в зале – досматривать своё творение и мучиться вопросом, что же было сделано не так.
И бродить потом по городу до ночи, распугивая парочки из подворотен. И рыдать в подушку, пока сердце не начнёт бить в рёбра, как в бубен. И валяться в постели, не умея заснуть, – до утра, а затем уже и до следующего вечера, так и не вычистив зубов. И мёртвым голосом просить в телефонную трубку: «Будьте любезны, порекомендуйте меня вашему психиатру…»
Как вдруг – бейте, литавры! – «красный миллионер» Вилли Мюнценберг закупает-таки «Потёмкин» для демонстрации в Германии. «Совкино» срочно отряжает Эйзенштейна и Тиссэ в Веймарскую республику.
И вот за окнами уже Берлин, третий мегаполис мира, а заодно и «второй красный город после Москвы». Эверест архитектуры и мекка кинематографа, фронтир точной науки и психоанализа.
Немецкая нация, едва ожив после поражения в Первой мировой, кутит по кабаре и мюзик-холлам, бьётся на уличных боях и обжирается фильмами ужасов, которые исправно поставляют собственные режиссёры (самый известный среди них, конечно, старый знакомец Фриц Ланг).
Ужас – главный экспортный товар немецкого кино. Вся боль и все страхи побеждённого народа кристаллизуются в рассказы о вампирах и галлюцинациях. Но если для прочего мира они всего лишь сказки, записанные на целлулоид, то для самих немцев – беспощадные зеркала. Потерянные отражения, что совершают убийства помимо воли хозяев, – разве это сказка? А пересаженные пианисту чужие руки, что сами тянутся убивать? А оживающие восковые фигуры тиранов прошлого? А Смерть, что уже устала объяснять героям тщетность их усилий вырваться из ада? Пока американцы жуют сахарную вату напополам с продукцией Холливуда, немцы учатся любить горькое кино.
Но даже для них «Потёмкин» оказался слишком радикальным. Палата киноцензуры предписывает убрать самые кровавые моменты из лестничного эпизода – внести аж четырнадцать купюр.