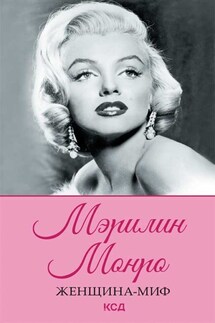Эйзен - страница 51
А если некого было одаривать – потухал, как выгоревшая свеча. Одинокие ночи в гостинице были невыносимы: не перед кем было рассуждать, страдать, примерять маски и вообще – жить. Возможно ли, что жил он только, пока на него смотрели другие, а когда они переставали – и он переставал? Энергия, которую высекало из него чужое внимание, испарялась бесследно – оставалось одно лишь валяющееся на кровати вялое тело, не имеющее сил даже раздеться. Наваливалось такое безысходное одиночество, словно был в тюремном карцере, а не через тонкую стенку от коллег. Охотнее всего он переехал бы в номер к Тису или даже Александрову, но те вряд ли бы обрадовались. Оставалось только рыдать в подушку, по детской привычке. Утром одним из первых возникал на площадке, уже искрясь энергией и с лучезарнейшей улыбкой: а вот он я! Готов повелевать людьми, предметами и историческим процессом.
Одесса подарила ему армию восторженных зрителей: полгорода приходили посмотреть на съёмки в порту. Мама́, консультанты, журналисты, местные и московские, – всем было дело до Эйзенштейна. Одессит Бабель захаживал, да не один, а со свитой родных-приятелей-поклонниц. И дело спорилось – съёмки летели на всех парах.
Севастополь же, куда группа переехала в конце осени, оказался не в пример скупее. Снимали не в городе и даже не на окраинах, а далеко за их пределами, в одном из самых дальних отрогов Сухарной балки. Там стояло на вечном приколе дряхлое судно – некогда броненосец Российской империи, а ныне хранилище для мин. Его-то и превратили на пару недель в «Потёмкин», поставив перпендикулярно берегу и снимая аккуратно, чтобы скалы не лезли в кадр и не разрушали иллюзию открытого моря. Вытаскивать мины не стали: время поджимало – так и ходили-бегали по палубе, помня про тонны взрывчатки в трюме.
С гостями в Севастополе была беда. Не было тут очевидцев, что стайками роились вокруг режиссёра и жужжали критически. Не было ротозеев, делегатов городской администрации, газетчиков, наконец. На счастье Эйзена, имелись хотя бы новые актёры – команду советских матросов отрядили играть потёмкинцев. Но разве сравнимы сдержанные взгляды моряков с зачарованными взорами зевак? С охами-ахами женщин из массовки или с пытливым интересом прессы? Непросто, а вернее сказать, очень трудно было работать в Севастополе – вдохновение не то.
За две недели гостей пригласили на съёмку единственный раз. Ставили самый сложный и самый дорогой кадр картины, которым предполагалось увенчать финал: эскадра Черноморского флота Российской империи даёт предупредительный залп, требуя от мятежного броненосца сдаться, а тот упрямо поднимает красный флаг. Александров сгонял в Москву – к самому Фрунзе, председателю Реввоенсовета и Наркомвоенмора, – просить о содействии флота. Мандат был получен, и в назначенный день Черноморская эскадра СССР в полном составе поступила во временное командование режиссёра.
Эйзен, в новом пальто и солнечных очках по последней моде, с раннего утра маячил на вышке, встречая зрителей. Их прибыло много, едва поместились на платформе: репортёры, командование флота и целый отряд партийных чиновников из горкома, с жёнами и не совсем. Эйзен, за прошедшие недели изрядно заскучавший в компании матросов, наслаждался большим обществом: говорил много, комплименты и остроты отвешивал щедро.
Этот день обещал стать лучшим за севастопольскую пору. Безоблачное небо ярко синело, даря прекрасную освещённость. Суда ушли за линию видимости, чтобы войти в кадр из-за окоёма. Предполагалось, что в назначенную минуту они выдвинутся к берегу и, приблизившись, дадут залп из всех орудий – по сигналу режиссёра. Снимать решили с разных точек – несколько камер были расставлены по вершинам Балаклавских гор и уже пристреливались к местности. До старта съёмки оставалось около получаса.