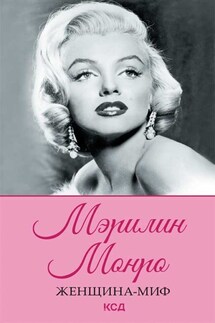Эйзен - страница 49
Столь яркие чувства нужно было снимать как можно более крупно – не с удобной статичной площадки, а изнутри толпы: убегая вместе с ней, мечась вверх-вниз и кувыркаясь по ступеням. И Тиссэ убегал, метался и кувыркался. Тело его давно уже слилось с камерой, и ассистентам оставалось только перемещать этот увесистый организм из человека и тарахтящего прибора туда, куда велел сам оператор или суетящийся рядом режиссёр. Этот организм Гриша со Штраухом сажали на скрещённые руки и носили в гуще толпы, когда та с воплями растекалась от направленных в неё солдатских винтовок. Привязывали к широкой доске и скатывали по специально сколоченным рельсам: один отпускал на верху лестницы и стравливал на верёвках, а другой страховал внизу, чтобы организм не соскочил с траектории и не разбился всмятку. А такие риски – сломать ногу, шею или объектив – возникали по сотне раз на дню. Но то ли ассистенты славно хранили Тиссэ, то ли юный бог кино – ни разу за две недели лестничных съёмок оператор и его камера даже не оцарапались. И засняли несколько тысяч метров плёнки: истошно орущие рты и выпученные в панике глаза, вскинутые к небу руки и мелькающие в беге ноги, падающие тела и лежащие вповалку – ужас во всех возможных видах и всеми возможными планами, под всеми мыслимыми углами.
– Почему это солдаты у вас барышень нарядных косят и стариков? – возмущались очевидцы, которые ежедневно слетались на площадку из желания помочь кинематографу. – Мы же своими глазами видели, как было. Рабочих митингующих – да, разгоняли. Бандитов с мародёрами – да, стреляли в порту. А барышни к тому времени давно уже бежали из Одессы со всеми своими нарядами, шляпками и зонтиками. Никто их из винтовок не решетил и саблями не кромсал. Какая-то библейская резня у вас получается, товарищ режиссёр, а не исторический факт.
– Это одно и то же, – отшучивался Эйзен, увёртываясь от советчиков. – Для искусства нет разницы.
На фоне раздираемой ужасом толпы он и задумал показать сюжеты убиения детей.
Сына Афины решил убить выстрелом в голову. Пусть мальчик с матерью сбегают по ступеням. В какой-то момент он падает, раненый, а она продолжает бег, и довольно долго, не замечая потери. Наконец оборачивается – и бежит по ступеням обратно вверх, снова долго, всё это время видя угасание сына. А пока она бежит, расталкивая встречный поток, живого ещё мальчика топчут чьи-то ноги. И он умирает – до того как мать успеет прикоснуться к нему в последний раз.
– Пусть хотя бы на руках у матери умрёт, – предложил Бабель, который по-свойски появлялся на площадке, но никогда раньше не позволял себе вмешиваться. – Жалко шпингалета.
– И превосходно, что жалко! – воодушевился Эйзен. – Иначе для чего снимаем?..
С топтанием живого тела также вышла заминка. Гриша, обычно готовый на всё и вся по приказу режиссёра, отказался «сыграть ногою» в крупном плане: чей-то ботинок наступает на детскую ладошку с шевелящимися пальчиками.
– Так ты же не по-настоящему наступишь! Коснёшься подошвой – и вся недолга.
Насупился Гриша. Отводит глаза, мнётся от неловкости, что перечит: не буду.
– На других обопрёшься, а в кадре только ногу пронесёшь. Мальчишка её даже не почувствует.
Лицо мученическое, а головой трясёт: всё равно не буду.
– Чёрт с тобой! – махнул рукой Эйзен.
И «сыграл ногою» сам…
Зато какова была Афина в страдании! Не женщина, а ожившая греческая трагедия поднималась по ступеням к умирающему ребёнку. Не крича – вопия. Не горюя – скорбя. Вот где пригодились гигантские отражатели: такое лицо нужно было озарять со всех сторон, предъявляя зрителю в мельчайших деталях: и гневную складку меж бровей, и изгибы ноздрей, и рот, словно окаменевший в крике. Эйзен позволил камере налюбоваться античной красотой, а после убил Афину прямым попаданием в живот.