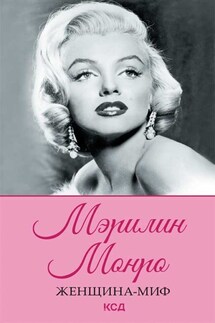Эйзен - страница 48
Наконец нашли – деву столь же юную и прекрасную, сколь и печальную, не то грузинку, не то армянку. Эйзен самолично снял с её кудрей красный платок – украшение комсомолки – и набросил тёмную вуаль, оставив лицо открытым и обрамив скульптурными складками.
– Мадонна первый сорт, – подтвердил Тиссэ, разглядывая результат в объективе камеры. – Младенца в руки – и прямиком к Рафаэлю на фрески.
Найти младенца-партнёра оказалось проще в разы: принесённые на пробы сосунки были вполне ангелоподобны. Выбрали того, чьи родители согласились на трюки с участием юного актёра.
Ещё нужна была мать среднего возраста – для ребёнка постарше. Подобрали совсем другой типаж: ни тонкости, ни особой красоты в женщине не было, а имелись крепкая фигура и изумительной лепки еврейское лицо, где и скулы, и нос, и подбородок – по отдельности чрезмерны, а совокупно царственны. Двигалась она как воительница, а вернее, воитель – энергично и с такой недюжинной силой, что Эйзен залюбовался:
– Браво, Гриша! Где вы сыскали эдакую Афину? Вот кого мы заставим побегать по ступеням, и подольше!
Александров, приметивший укутанную в дворницкий фартук Афину не далее как в паре кварталов – за подметанием Греческой улицы, загадочно улыбался. Малолетнего сына для неё подобрал сам режиссёр: в толпе гоняющих мяч разглядел пацанёнка, что падал и вскакивал на ноги ловче остальных.
Третья – и последняя – мать предполагалась уже пожилой. Из многих претенденток взяли самую добродушную: она искренне и много улыбалась во весь рот, обнажая не только дёсны, а, казалось, и всю душу, и Эйзену захотелось иметь эту улыбку в кадре. На пробы женщина привела и очень похожую на себя внучку-подростка. «Будет не внучка, а дочка», – объявил режиссёр. Сомневающихся отослал к Ветхому Завету: мол, Сарра в девяносто родила, и вполне успешно.
Итак, матери и дети найдены – можно убивать. Ну, или снимать, кому как больше нравится.
Съёмки лестничного эпизода предстояли долгие – не один день, а возможно, даже не одну неделю, – и каждое утро режиссёр с оператором встречали на площадке новый состав массовки: отработавшие вчера часто не приходили сегодня. Беды в этом большой не было – монтаж спаяет разрозненный материал в единое действо, – но было неудобство: людям приходилось заново ставить задачу и ставить настроение. Не просто объяснять «беги изо всех сил, спотыкаясь и толкая других», а взвинчивать эмоции до максимума. Кто-то возбуждался легко, уже на прогоне начинал визжать и скакать раненым зайцем, а кто-то хуже, никак не умея сразу впасть в истерику. Объектив ловил и беспощадно предъявлял эту разницу.
Бабель предложил нанять оркестр, чтобы тревожная музыка помогала актёрам играть.
– Не музыка нужна, – поправил Эйзен. – Какофония.
Пригласили немалую банду: ударные, духовые и даже контрабас, общим счётом аж тридцать пять инструментов. Велели жарить что есть мочи, но не единую мелодию, а каждому свою – чем громче и дурнее выйдет шум, тем лучше. Оплата была почасовая, щедрая, и джазисты старались – дудели и громыхали так, что вблизи закладывало уши. Приём помог: люди заскакали по лестнице прытче, не то вдохновлённые тарарамом, а не то стремясь как можно скорее убежать от него.
А Эйзен придумал ещё кое-что, вдобавок. Самым голосистым, кто в раже начинал панически визжать, назначил двойной тариф. За это им вменялось горланить как можно истошней – сразу после режиссёрского «Мотор!» и вплоть до «Снято!». И пошло дело. Оркестр адски выл, крикуны верещали как резаные – массовка впадала в нужную режиссёру ошалелость чуть не с первого дубля.