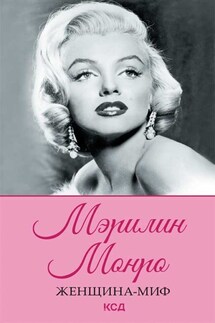Эйзен - страница 47
– Пишите мне! – кричит сквозь летящие от паровоза клубы пара. – Пишите непременно!
Эйзен стоял, засунув руки глубоко в карманы (и там, в глубине, сжав кулаки). Знал, что в армии материнских шпионов прибыло. Охота выдалась удачной: и простофиля Гриша, и интеллигентный Тис, и душа Штраух – все они будут докладывать Мама́ о происходящем вокруг её знаменитого сына. А она – с упоением разбирать каждое письмо и сводить в единую картину, пытаясь как можно полнее овладеть подробностями его жизни.
Никогда они не были близки, разве что изредка в письмах, и то обсуждая сторонних людей. Никогда не снимали масок – не знали друг друга настоящих. Спроси у него «а какая на самом деле ваша мать?» – и не смог бы ответить. Да и была ли она вообще, настоящая Юлия Ивановна Эйзенштейн? Или вся состояла из одних только улыбок, лжи и вычурных шляп? Спроси у неё «а какой на самом деле ваш сын?» – разве могла бы поведать что-то, кроме сочинённых ею же баек? Что ж, если за прошедшие двадцать семь лет у неё не было времени узнать сына, пусть займётся этим сейчас, раз уж других занятий у стареющей женщины не осталось. И потерпит фиаско. Он умнее матери: отрастит себе столько масок, что жизни не хватит их разгадать.
– Не грустите так, – сказал Бабель, утешительно касаясь плеча Эйзена. – Вот закончите фильму, станете живым классиком. И дадут вам отдельную комнату. И перевезёте своё сокровище из Ленинграда в Москву.
Эйзен кивнул: обязательно закончу и обязательно стану. И комнату, конечно, дадут.
А последнее предложение – не расслышал.
Матери должны видеть смерть своих детей. Вот что Эйзен решил сделать лейтмотивом главной сцены – расстрела на одесской лестнице.
Сюжет эпизода придумался в первый же день съёмок, а вернее, сложился напополам из правды и режиссёрской фантазии: гуляющие горожане приветствуют броненосец с мятежными матросами, и за эту солидарность правительство чинит над ними расправу – жандармы и казаки истребляют мирную толпу. Мужчин Эйзен задумал показать на общих планах. Женщин и стариков, а также детей и калек – на крупных. Все они в ловушке: сверху механическим шагом спускаются солдаты, расстреливая на пути всё живое, внизу гарцуют и секут саблями казаки. Сто двадцать ступеней превращаются в арену трагедии: обезумевшие жертвы мечутся вверх и вниз, не умея выскочить за ограждения, падают и топчут друг друга, а затем умирают, умирают, умирают.
Ближе всего и подробнее показать смерть детей. А матерей убивать не сразу – пусть материнские горе и ужас умножат чувства зрителя и возведут в наивысшую степень чистейшей ярости и крепчайшей ненависти. (Ненависти к кому? Эсфирь Шуб сказала бы: к врагам революции. Эйзенштейн предпочитал другую формулировку: к абсолютному злу.) Матерей подобрать разных возрастов и внешностей – и заставить каждую женщину в зале узнать на экране себя.
– Каких мамаш ищем-то? – не мог понять Гриша Александров, приведший на просмотр уже целый отряд кандидаток. – Блондинок, брюнеток? Потолще, похудей?
– Для начала найди мадонну, – твердил Эйзен. – Мне нужно не лицо, а лик.
– Чтобы как на иконах? – недоверчиво уточнял Гриша.
– Именно. С очами, полными неизбывной скорби.
Гриша, вот уже несколько дней без толку шукавший ту скорбь на бульварах и Привозе, задумал даже объявление в газету тиснуть – дословно с этим требованием, но редактор отказал: не поймут, ещё и засмеют.