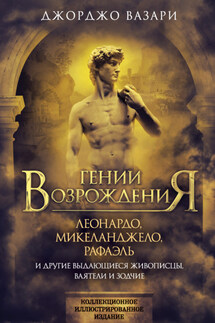Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект - страница 13
Смотря по тому, как воспринималась здесь имперская власть – как тирания или как просвещенная монархия, формировались более или менее радикальные стратегии отношения к ней. В этом контексте, постепенно перерастая его рамки, формировалось и славянофильство. Особенность позиции славянофилов заключалась в том, что все возможные варианты отношений власть – интеллигенция – народ выглядели для них в равной мере европеизированными, «отвлеченными» и, следовательно, требовали радикального переосмысления. Это переосмысление влекло за собой, как правило, изменение общественных отношений, так сказать, «явочным порядком», из-за чего славянофилы регулярно подвергались репрессиям со стороны правительства и обструкции со стороны интеллигенции[17].
Оппозиция правительству принимает антиевропейское и патриотическое направление в том случае, если европеизация ассоциируется с «развратом и падением нравов» (как у кн. Щербатова). Отталкиваясь от господствующего вольтерианства, с одной стороны, и давящего государственного аппарата – с другой, принимая и то и другое за выражение нашей русской недоразвитости, – она направлялась в область мистицизма и духовного просветительства.
Развивая и углубляя патриотическую проблематику интеллигенция приближалась к осознанию «самоценности национального духовного опыта» [170, с. 6] и переходила от патриотизма в отношении Империи к более глубокому пониманию жизни народа и языка.
Первым историком славянофильства, обратившим внимание преимущественно на этот аспект его становления, стал К.С. Аксаков, с успехом применивший гегельянские схемы мышления к истории русской мысли. В разных произведениях Аксакова это движение возвращения представлено следующим рядом предшественников славянофильства:
1) литературная, лингвистическая и историческая деятельность Ломоносова (диссертация «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», статья «Взгляд на русскую литературу с Петра Первого»), который действительную потребность, потребность в знании и в поэтическом выражении перенес в отвлеченную сферу и в силу этого стал с ней в неразрешимое противоречие [12, с. 160–164];
2) басни – в которых именно благодаря их низкому положению в официально принятой системе жанров впервые более или менее свободно высказался русский язык – Хемницер, Крылов;
3) комедии Фон-Визина с их особенной горькой серьезностью, в которой прорывалось «отрицательное чувство сознания своего обезьянства, своей несостоятельности, непрочности, лжи («Взгляд на русскую литературу с Петра Первого») [12, с. 170–171];
4) протесты против подражательности Болтина (в истории), Шишкова (в теории литературы и языка), Грибоедова (в литературной практике – «Горе от ума») («Письма о современной литературе») [12, с. 194];
5) литературная деятельность Карамзина, прошедшая несколько существенно важных этапов. Преодолев в начале своей деятельности «отвлеченность» литературы в рамках общества, Карамзин, «приступив с западными понятиями к истории…, мало-помалу преобразовался сам русской историей, учился у нее и пришел под конец к новым убеждениям, несогласным с прежними», но близким «русскому направлению» («О Карамзине») [12, с. 172–185]. Все это нашло свое выражение в «Записке о старой и новой России» и оказало мощное воздействие на становление творчества и убеждений молодого А.С. Пушкина;