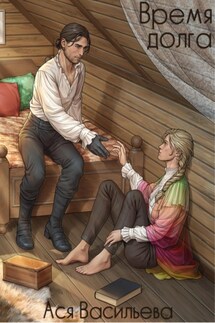Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - страница 30
Зеньковский справедливо говорит о влиянии Фихте и Гегеля на развитие идей Бакунина, однако он останавливается больше на характере его религиозности, чем на его понимании религии, и, кроме того, не учитывает другого важного влияния: просвещенческого варианта концепции естественной религии, критически заостренного против религии исторической, религии откровения, против христианства и Церкви. Представляется, что именно в свете этой концепции Бакунин, с самого начала своего философского пути, осуществлял переосмысление учений немецких идеалистов. Как пишет современная исследовательница: «В середине 1830-х гг., с первых шагов своей “сознательной жизни”, Бакунин противопоставляет существующую церковь с ее догматами повиновения, в которой он видел гнездилище “всевозможных пороков” – богу, религии, “истинной религии”, по его выражению»[138].
Это противопоставление естественной и исторической (церковной) религии легко обнаруживается в переписке Бакунина 1830-х гг. Он писал сестре: «Пусть религия сделается основою и сущностью твоей жизни и твоих действий, но пусть это будет… религия божественного разума и божественной любви… а не та религия, которая стремилась отделиться от всего того, что составляет содержание и жизнь истинно нравственного существования; проникнись истинною религиею, религиею Христа, еще чистой от оскверняющего прикосновения тех, кто, чтобы понять ее, неизбежно должен был принизить ее до себя…[139]
Эта естественная религия является прежде всего личным достоянием человека. Более подробно Бакунин характеризует ее следующим образом: «Я христианин, потому что христианская религия есть религия моей души, в христианской же религии я признаю одно только Евангелие, а в нем я признаю только то, что говорит моей душе. Ибо вера есть не что иное, как способность души… Я могу верить только в то, что люблю, и могу любить только то, что понимаю»[140].
Этому пониманию религии соответствует и намечаемое Бакуниным (и переживаемое им) в этот период понимание Бога: «Этот Бог требует от меня достоинства, Он хочет, чтобы я был свободен, ибо Он Сам свободен. Он хочет, чтобы я развивал в вечности мои моральные и интеллектуальные способности…»[141]
Бог предстает здесь как основной двигатель антропогенеза, как источник развития человечности в человеке. И это понятие о Боге противопоставляется им «тому Богу, которому молятся в церквах»[142].
Эти идеи сочетаются у Бакунина с мечтами, близкими ряду идей Серебряного века, о новой религиозности, о религиозном перевороте и т. п. и образуют, таким образом, фон его раннего радикализма в 1840-е гг. Существенно, что уже на этих ранних стадиях духовной и интеллектуальной эволюции Бакунина религия является для него не только «предметом веры», но и «предметом философской теории»[143]. Интересно, что уже в статьях 1830-х гг. Бакунин, превознося религию, указывает и на ее значение для государства[144]. Ю. М. Стеклов остроумно заметил в свое время, что, перейдя на атеистические позиции, Бакунин, в сущности, лишь поменял знак в своих суждениях с плюса на минус[145].
Решительный поворот во взглядах Бакунина происходит в первой половине 1860-х гг.: «По свидетельству Тургенева, в 1862 году Бакунин делал ему признания в своих верованиях и… осуждал Герцена за неверие в личного Бога»[146], однако в 1864 г. в программе «Союза социальной демократии» уже провозглашается атеизм.