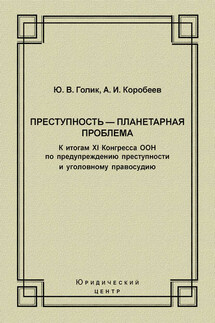Философия уголовного права - страница 38
Сама наука, в том виде как она существует у нас теперь, как ее сделал метод аналитический и индуктивный, словом метод XVIII столетия, не что иное, как состояние разрушения, гораздо худшее, чем все наши болезни, самое тяжелое наказание, которое наложено на нас Божественным правосудием. Дух наш, по словам де Местра, пресмыкается, печально и болезненно влачится по земле, в то время как он должен был бы, согласно предписанию Бога, рассекать своими крыльями выспренние пространства. Такова, в самом деле, была наука при своем начале, когда Бог самолично пришел сообщать нам ее «вместе со словом», и только через грехи человека, через его неверие и преступления она стала тем, что она теперь. Из этого видно, что де Местр считает «слово» Божественным учреждением, что он заставляет его родиться вместе с человеком, и что науку он признает столь же древнею, как и «слово». Это предположение, на котором основывается вся философия Бональда, проповедовалось в первый раз теософом Сен-Мартеном и у него-то автор «С.-Петербургских вечеров» заимствовал их, чтобы присоединить некоторым образом к своей системе. Все, что могло унизить человеческий разум, а следовательно, и свободу – главный предмет его проклятий, де Местр находит пригодным для своей цели, все равно из каких бы рук он ни получал это.
Впрочем, Божественное учреждение «слова» и сверхъестественное откровение всех наук – не более, как спекулятивные гипотезы, которые пока не заключают в себе ничего противного здравым понятиям о праве. Это бы еще ничего, но вот де Местр выставляет положение другого рода, положение, которое, доводя до крайности принцип искупления, призывает наши проклятия и нашу ненависть на голову тех, которые всего больше заслуживают наше сострадание, на самую несчастную, самую беспомощную часть человечества. Если мы невежественны и несчастливы единственно только по нашей собственной вине, по своей гордости и преступлениям, то что следует думать о тех, которые не то, что удалились от истины, а совершенно потеряли ее следы, которые не только остановились на суетности и иллюзиях ложной науки и развращенной цивилизации, но которые остались совершенно чуждыми всякой цивилизации и погружены в глубокий ночной мрак? Словом, что следует думать о диких? Дикие у де Местра – не дети, которые еще не могут сравняться с нами, не беспомощные люди, которые остались позади своих братьев, не находя дороги, по которой они могли бы догнать нас; нет, у него они – люди, дошедшие до последней степени упадка, разрушения, дряхлости и преступничества; это проклятые, отверженные, которые справедливо страдают от сокрушающих их бедствий и для которых недостаточно всякое омерзение, которое мы можем чувствовать к ним… Хотя читатель уже несколько знаком с этой тканью гнусных бредней, однако ж я боюсь, что меня обвинят в преувеличении, и посему предоставлю говорить самому де Местру.
«Невозможно в продолжение минуты смотреть на дикого без того, чтобы не прочесть анафемы запечатленной – я не говорю уже на всей его расе, но даже на внешних формах его тела. Это безобразное дитя, крепкое и дикое, в котором пламя разума бросает только слабый и перемежающийся свет; страшная рука, тяготеющая на этих проклятых расах, уничтожает в них две самые характеристические черты нашего величия: предусмотрительность и способность к усовершенствованию. Дикий рубит дерево для того, чтобы воспользоваться его плодами, он убивает вола, которого получил от миссионера, и зажаривает его дровами сохи. Больше трех столетий он смотрит на нас, не желая получать от нас ничего, кроме пороха, чтобы убивать своих ближних, и водки, чтобы убивать самого себя. Ему даже никогда не приходило в голову самому выделывать эти предметы, – в этом отношении он полагается на наше корыстолюбие, в котором он никогда не найдет недостатка»