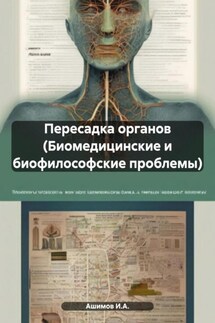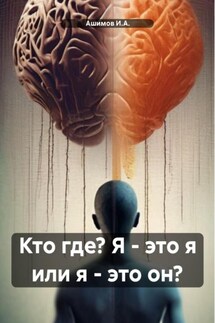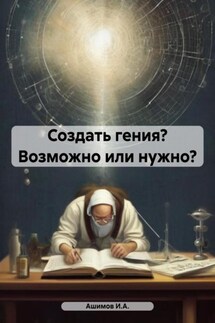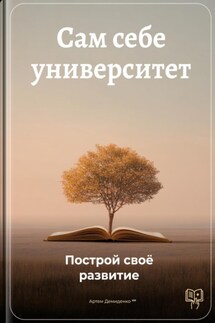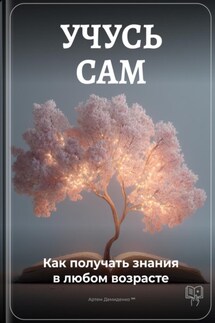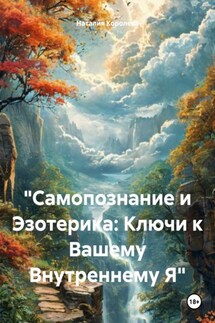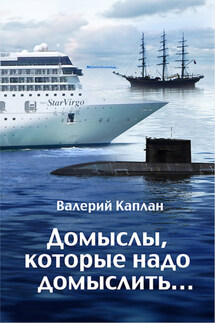Философия возвращения к себе - страница 13
Первое. Понимание опережающего сознания. Ибн Сино осознаёт, что его мышление, система знаний, методы познания, синтез наук – значительно опережают возможности восприятия его современников. Он видит то, что другие ещё не способны различить. Он оперирует связями, которые для его эпохи – хаос, а для него – целостная картина мира. Это не просто гордыня ученого. Это – трагизм просветлённого.
Второе. Разрыв между внутренним прогрессом и внешней эпохой. Ибн Сино уходит «вперёд», но время, в котором он живёт, остаётся вокруг, не следуя за ним. Он один. Это экзистенциальная изоляция, где учёный – как спутник, вышедший за орбиту, но оставшийся без радиосвязи. Он уже в будущем, но телом всё ещё в настоящем.
Третье. Одиночество как плата за прозрение. Я не виню никого, так как понимаю генез и цену своего «ухода» вперёд. Это не горечь – это ясность. Опережение времени – это изгнание в будущее, которого ещё нет. И нет рядом тех, кто может быть соучастником. «Ты не одинок, потому что тебя предали. Ты одинок, потому что ты увидел дальше». От своих коллег по медицине и науке я ушел вперед, потому, что всей душой примкнул к философии. А что это означает? Означает, что научился правильно мыслить, а, как известно, задача философии – научить людей правильно мыслить.
Четвертое. Печальное знание: тебя поймут позже, но ты не увидишь этого. Это главный драматизм фразы. Ибн Сино знал: его время догонит, но он не доживёт, чтобы это увидеть. Его трактаты будут открыты заново. Его методы станут стандартами. Его синтез – наукой. Но это уже будет не его век. Это трагедия всех великих: признание после ухода. Есть такая печаль и у меня.
Пятое. Отрыв – не гордость, а ответственность. Ибн Сино осознаёт: если он ушёл вперёд, то должен оставить след, вехи, ключи, по которым будущие смогут дойти до него. Он становится мостом через пропасть веков, а не только наблюдателем разрыва. Он не замыкается – он пишет. Он передаёт. Он оставляет путь. Оставил ли я сам такой след – большой вопрос, но сохранил такой путь, что немаловажно для моего утешения.
Шестое. Разговор с дервишем – акт передачи времени. Слова Ибн Сино своему ученику Хиссо Хошму – это передача огня, а не жалоба на холод. Он не просто констатирует свою опередившую судьбу, он вверяет её тем, кто способен понести дальше. Дервиш – это не просто слуга, это носитель преемственности между эпохами. В моем романе «Поиск истины» у меня есть собеседник – дервиш Захид, который становится моей философской тенью.
Седьмое. Философский итог: ушёл не вперёд, а вглубь. Можно переформулировать его слова так: «Я ушёл не по времени. Я ушёл вглубь времени». Ибн Сино прошёл сквозь свою эпоху, словно сквозь кожу времени, и вышел к его внутренней структуре. Поэтому и у меня впереди – это не в календаре, это – в понимании смысла своего времни и простанства.
Итак, фраза «Я ушёл вперёд от своего времени» – это не заявление превосходства, а свидетельство внутреннего изгнания, философской ответственности и предельного одиночества человека, который узнал больше, чем способен вместить его век. Это не бегство, а это обгон – без триумфа. Это не героизм, а это мука. Это не привилегия, а это миссия.
Все чаще мне думается, является ли у меня главным страх быть непонятым? В чем заключается суть моего рефлексирования над смыслом такого признания? Скажу та: Да, страх быть непонятым – один из глубинных, хотя и не всегда прямо выраженных, мотивов в философской моей исповеди. Я не кричу об этом страхе, но весь ритм моей «жизни наоборот». Однако, как оказалось, вся философия Тени, Аватара, памяти и возвращения говорит об этом страхе с особой тишиной. Это не просто страх – это экзистенциальное напряжение между высказыванием и молчанием, между творением и его восприятием. Вот как раскрывается смысл этого признания и как происходит рефлексия над ним: