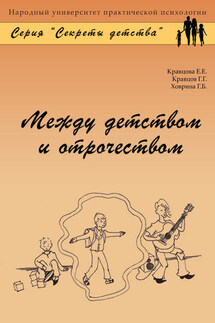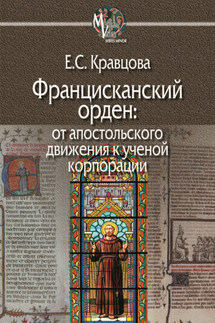Францисканский орден: от апостольского движения к ученой корпорации (Франция, XIII в.) - страница 2
Поскольку данный переворот произошел во многом благодаря накопленным сведениям по истории XI—XII вв., в основном новые направления разрабатывались в области проблематики «Ренессанса XII века» (Ч. Хаскинс, М.-Д. Шеню, Ж. Верже и др.)21. В тоже время, не подлежит сомнению, что кульминацией встречи религиозной и светской культуры являлся период возникновения и становления нищенствующих орденов, что существенным образом повлиявших на экономику и социальное развитие западноевропейского средневекового общества (Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, Л.К. Литтл, А. Воше, Дж. Микколи)22.
Несмотря на множество разнообразных исследований в области истории культуры, задача соединения в истории Францисканского ордена проблематики «корпорации» и «религиозных движений» до сих пор остается актуальной. В одной из недавних работ Ж. Даларен, авторитетный специалист по ранней истории Францисканского ордена, вплотную приблизился к решению проблемы, обратив внимание на феномен внутренней истории этой общности, создаваемой агиографиями св. Франциска. Но он не показывает, впрочем, ради чего в течение XIII в. переписывается история, сосредоточив свое внимание только на реконструкции истинных намерений Франциска по превращению стихийного движения в Орден. Кроме того, его исследование написано, скорее, в позитивистском ключе, нежели в структуралистском23.
В отечественной историографии на данный момент отсутствует такое исследование, в котором бы рассматривалась проблема трансформации мистического религиозного движения в орден. Во многом потому, что в советский период историография, формально отказываясь от дореволюционного наследия, в реальности разрабатывала те же самые идеи, но в ином плане, привязывая их к одной методологии, которая не допускала каких-либо явных отклонений от канона. Это можно увидеть на примере изучения проблематики формирования нищенствующих орденов и феномена средневековой ереси. Только в конце 1990-х—начале 2000-х гг. начинает преодолеваться методологическая растерянность и создаваться собственная историографическая традиция, с переработкой результатов советского периода, но без отрыва от зарубежного опыта24.
Проблема институционализации Францисканского ордена в отечественной историографии была рассмотрена в единственном труде, в начале XX в. Речь идет о монографии С.А. Котляревского, который изучил формирование “Ordo Fratrum Minorum” как процесс, проходящий под контролем Римской курии, создающей религиозную структуру для своих нужд25. В советской историографии нищенствующие ордена рассматривались в контексте церковной истории, как правило, без проведения каких-либо различий между ними; они воспринимались как орган, который был создан римской курией для мимикрирования под народные идеалы, ради отвлечения внимания и искоренения ересей (И.Р. Григулевич, С.Г. Лозинский, М.М. Шейнман)26.
Основное внимание советских медиевистов привлекла проблематика средневековой ереси, которая также имеет свои корни в дореволюционной историографии. В основе исследований Л.П. Карсавина лежал тезис о том, что идея совершенной бедности характерна для народных религиозных течений. При этом истоки монашества он видел в установке на аскетизм