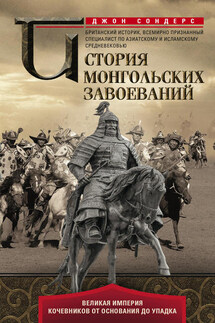справедливо указал, что в силу ограничений, налагаемых на различительную способность человеческих органов чувств, наблюдение, строго говоря, никогда не способно измерить объективно равные, а только «неразличимые» величины, и разработал из этого методы уравнивания и преодоления ошибок наблюдения: но для каждого отдельного наблюдения неразличимость совпадает с субъективным равенством концептуальных образов. Это можно проиллюстрировать и на других примерах. Если мы сначала считаем два относительно небольших объекта одинаковыми, например, по размеру и форме, а затем убеждаем себя в их несходстве с помощью микроскопа, то ситуация как раз такова, что в первый раз мы действительно имели одинаковые, а впоследствии действительно несходные воображаемые содержания. Если способность различать сенсорные качества, такие как цвета и звуки, может быть увеличена до поразительной степени благодаря практике и тренировке способности, благодаря потребности и интересу, то это основано на том, что мы учимся воспринимать более тонко, то есть получать более дифференцированные концептуальные образы. Это также можно отнести к психогенезу логических процессов. Те неопределенные общие понятия
27, «первое общее» в душе
28, с которых начинается всякое мышление и речь, есть лишь выражение того, что в процессе апперцепции, несмотря на все разнообразие стимулов в сознании, сначала схватывается (и обозначается) только постоянно повторяющееся одно и то же, так что наивные воспоминания и обозначения, которые кажутся такими странными развитому и дифференцированному сознанию, на самом деле являются выражением опыта. В целом, сознание не может обманывать себя относительно равенства или неравенства своих концептуальных содержаний; было бы немыслимо, откуда взяться ошибке: Суждения сравнения становятся неверными только тогда, когда предполагается, что они касаются уже не идей, а объектов. В этом Юм будет прав: хотя совершенно ошибочно, что в своей первой односторонне-эмпирической концепции математики он
29 объявляет всякое исправление естественного уравнивания сверх того, чего мы можем достичь с помощью инструментов и искусственных средств, простой фикцией, столь же бесполезной, сколь и непостижимой. Он забывает не что иное, как главное, а именно, что суждения о равенстве в математике основаны не на сравнении впечатлений, а на построениях, определениях и концептуальных умозаключениях.
Но если, объявив заблуждение о равенстве или неравенстве в случае понятийных содержаний невозможным, но возможным в случае «объектов», мы можем говорить о правильности или неправильности суждений сравнения вообще, то это приводит нас к важному объяснению концепции рефлексивных категорий, которые все развиваются из взаимосвязи сравнения и различия30. Равенство, однако, не предполагает реального (конститутивного) отношения между объектами: но суждение о равенстве, тем не менее, полностью зависит от содержания представлений. Что сравнивать – это вопрос размышления, а значит, в определенной степени и произвольности индивидуального суждения: но утверждение о равенстве или неравенстве, лишенное всякого произвола, определяется исключительно сравниваемыми содержаниями. Если мое внимание привлекает гора и я сам нахожу, что контур горы похож или идентичен профилю исторической личности, например, Наполеона, то в этом случае нет даже тени реального отношения между двумя «объектами»: сходство возникает только для рефлектирующего сознания, в котором случайно сходятся представления о том и другом. Несвязанность двух «идентичных» объектов не всегда должна быть столь выраженной; напротив, иногда сходство опосредовано реальными связями, как, например, связь картины с ее оригиналом или сходство индивидов одного и того же пола: в последнем случае сходство может быть даже интерпретировано как (реальная) идентичность органического существа.