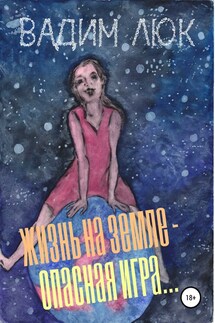Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 2. Скептицизм и пессимизм - страница 11
Глава двенадцатая. О цели скептицизма
25. Согласно порядку, мы должны теперь также рассмотреть вопрос о цели скептического образа мышления. Цель – это то, ради чего все делается или рассматривается, но что само по себе не существует ради чего-либо еще. Или цель – это предел желаемого. Теперь мы говорим, что цель скептика – спокойствие ума по отношению к объектам мнения и умеренное поведение по отношению к непроизвольному влечению.
26. Скептик начал философствовать, чтобы судить о явлениях чувств и понять, насколько они истинны или ложны: в этом он натолкнулся на противоположные мнения, имеющие одинаково веские основания, и не удовлетворил свой ум; он не мог решить ни за, ни против одной из противоположностей; поэтому он удержался от аплодисментов; случайно он снова обрел в этом спокойствие ума по отношению к предметам мнения.
27. Тот, кто верит и утверждает, что нечто по природе своей является добром или злом, всегда находится в беспокойстве, и пока ему не хватает того, что кажется ему благом, он считает себя угнетенным природным злом и борется за то, что считает благом. Когда же он приобретает это, то становится еще более беспокойным, потому что желает неразумно и неумеренно; и из страха перед изменчивостью вещей он делает все, что в его силах, чтобы не потерять предполагаемые блага.
28. С другой стороны, тот, кто не решает, что хорошо, а что плохо по своей природе, не желает с яростью и не стремится бежать от определенных вещей; его разум, таким образом, находится в покое. То, что сказано о художнике Аппеллесе, относится и к скептику. Однажды он рисовал лошадь; пена лошади так ему не удалась, что он в отчаянии бросил работу и бросил на картину губку, которой вытирал краски с кисти; губка коснулась лошади и совершенно случайно образовала пену.
29. Так и скептики надеялись обрести душевное спокойствие, исследуя несоразмерность между явлениями чувств и объектами рассудка; но поскольку они не могли достичь своей цели, они сдержали свои аплодисменты, и за этим сдерживанием аплодисментов последовало успокоение ума, как тень следует за телом. Мы не считаем, что скептик полностью свободен от беспокойства; но мы допускаем, что его беспокоят только те проблемы, которые ему не подвластны. Мы допускаем, что он может испытывать холод и жажду или страдать от чего-то подобного.
30. Но великое множество и здесь страдает вдвойне: сначала от самих неприятных ощущений, а затем от мнения, которое он лелеет, что они являются злом; тогда как скептик, который в то же время не считает, что эти ощущения по своей природе являются злом, допускает и более умеренное поведение по отношению к ним. По этим причинам мы считаем целью скептика спокойствие в отношении мнений, а также умеренность в отношении непроизвольных привязанностей. Некоторые известные скептики добавили к этому сдерживание аплодисментов даже в философских изысканиях.
Тринадцатая глава. Об общих основаниях скептицизма
31. Мы уже говорили, что полное сдерживание аплодисментов приводит к душевному спокойствию. Теперь мы должны объяснить, как это сдерживание аплодисментов возникает в нас. В общем, можно сказать, что оно возникает через противопоставление вещей. Но мы либо противопоставляем явления явлениям, либо объекты понимания объектам понимания, либо второе первому, и наоборот
32. Например, мы противопоставляем явления явлениям, когда говорим, что одна и та же башня издали кажется круглой, а вблизи – квадратной; мы противопоставляем объекты понимания объектам понимания, когда возражаем тому, кто доказывает провидение на основании порядка небесных тел, что хорошие часто несчастны, а плохие часто счастливы, и делаем противоположный вывод, что провидения не существует; 33. Мы возражаем против утверждения, что снег белый, как Анаксагор возражает против утверждения, что снег – это сгущенная вода, но вода черная, и поэтому снег черный. В другом смысле мы устанавливаем контраст, когда иногда противопоставляем настоящее настоящему, как в приведенных случаях, а иногда настоящее прошлому или будущему. Например, если кто-нибудь предъявляет нам аргумент, который мы не можем опровергнуть, мы отвечаем ему,