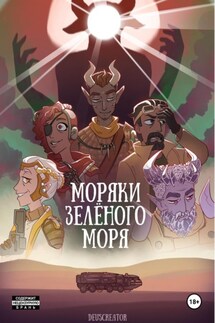Гипотеза о полной субъект-центрированной модели в изучении психического мира человека - страница 6
Образ может быть сложносоставным, представляющим из себя комплекс апперцептабельного\ощущений, включающий в себя несколько модальностей, например «карусель с музыкой», или «вкусное яблоко» или «вкусный плотный вчерашний завтрак» (последний вообще состоит из зрительного, вкусового, кинестетического, временного, и невидимого предэмоционального ощущения сытости). Также он может объединять в себе несколько эволюций, например образ просмотренного спектакля составлен из множества последовательных полимодальных наслоений и, тем не менее, присутствует во внутреннем мире субъекта как некое единое целое, гештальт, то есть образ может быть симультанным. Также образ может также воспроизводиться с различной степенью «разрешения», то есть быть более или менее подробным, наподобие изучаемого «фронтально» цветка или образа, присутствующего где то на краю восприятия, либо с различной пропорциональной точностью, когда, допустим, при воспоминании форма конкретного цветка воспроизводится представлением более подробно, чем его запах.
Ограничен ли состав образа чувственными конструктивными элементами модальностей?
Категорически нет, поскольку в любом образе должен присутствовать некий элемент сверх перцепции, делающий при апперцепции его в различной степени «понятным», опосредующий его актуальные и потенциальные отношения с эмоциональным опытом, другими образами, с желаниями и стремлениями, обстоятельствами, временем, словесным обозначением и значимостями, то есть со всей актуальной целостностью психики, элемент, содержащий в себе чувственные значимости и связанности образа. Фактически, образ должен содержать след предыдущих перцепций и апперцепций, который дополняет собой перцепт, будучи знанием в чувственной форме, присоединяемым к образу в процессе восприятия еще до до вмешательства сознания.
Важно отметить, что хотя двойственную природу перцептивного образа констатировали многие авторы, включая в него первичные образы и образы восприятия (Г. Гельмгольц), чувственную основу и воспринимаемый смысл образа (Э. Титченер), чувственную ткань и предметное содержание (А.Н.Леонтьев), видимое поле и видимый мир (Дж. Гибсон), и несмотря на ясное понимание того, что в формировании образа огромную роль играет память – чувственная основа образа была все же соединена ими «напрямую» с названным по-разному значением образа, образуя, по выражению А.Н.Леонтьева «единство» (А.Н.Леонтьев, «Деятельность и сознание», М., Смысл, Академия, 2005). Возможно, такое предположение произошло вследствие того, что сознание подвергает апперцепции содержание, только когда оно уже оформлено в «представление об образе», «истолковывая» его. Соответственно, при интроспекции значения образа производят впечатление его содержания: внимание исследователей по каким-то причинам не углубилось в факт, что восприятие перцептивного содержания после появления прежде всего производится не мыслящим сознанием, но несущим в себе весь опыт субъекта чувствующим до-сознательным с участием ассоциативных зон коры, которое даже по времени активации отстоит далеко от логических операций, осознаваний и вербальных констатаций.
Меж тем в результате этого до-сознательного конструирования, с перцептивной основой образа смыкается не обобщенное значение или тем более не концептуальное значение. А именно продукт до-сознательного, уникальный отпечаток перцептивной основы в текущем субъективном содержании и пробужденном им содержании памяти, воплощающий актуальное соотношение перцептивной основы образа с актуальным содержанием психики, иррациональное знание в чувственной форме, которое и является соединителем между перцептивной основой образа и его многочисленными значениями.