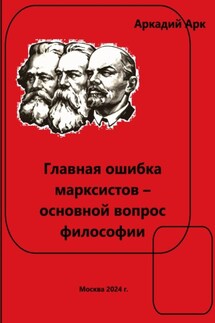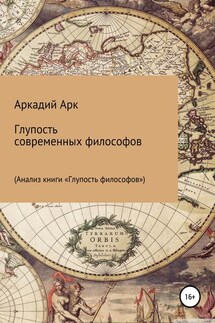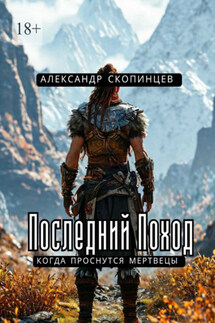Главная ошибка марксистов – основной вопрос философии - страница 7
Также есть много мнений, которые и вовсе не стоит рассматривать не только в ракурсе ОВФ, но и вообще в ракурсе философии. Например, вот такое мнение, нередко встречающееся в философских текстах:
«Философия работает с задачами, которые не могут быть решены в принципе – ни сейчас, ни когда-либо потом».
Такие утверждения позволяют себе только люди, совершенно не понимающие философии. Не то, что философия не может «работать» с такими задачами, вполне может, но они не являются для философии важными и первостепенными. Возможно, авторы подобных утверждений просто неправильно выражают свою мысль. Тогда им нужно поработать над терминологией и языком. Возможно, тут имелось ввиду, что «философия работает с задачами, которые актуальны всегда, и поэтому не могут быть решены окончательно». Это было бы более верным утверждением. Одно дело, когда задача решается всегда, потому что всегда актуальна, здесь есть прогресс мысли, и совсем другое дело, если задача не решается в принципе, потому что и не может быть решена. Тут нет никакого прогресса мысли, но ещё и возникает вопрос о целесообразности и необходимости. Зачем такая философия, которая никогда ничего не решает?
Или ещё более неразумное утверждение о философии, которое мне неоднократно попадалось:
«Философия начинается с очевидного утверждения: «невозможно научить человека мыслить»».
Это, и предыдущее высказывание дискредитируют не только философию, но и высказывающих подобные мысли философов, как занимающихся той «философией», которая никому не нужна и ничему не учит. Естественно, что об ОВФ такие философы будут иметь такие же неверные представления.
Однако читатель уже заждался критики марксистской постановки ОВФ. Давайте перейдём к ней.
Как появился марксистский ОВФ о первичности
Всё началось с работы Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». В ней Энгельс впервые выдвигает идею о том, что у философии есть «великий основной вопрос»:
«Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию. Уже с того весьма отдаленного времени, когда люди, еще не имея никакого понятия о строении своего тела и не умея объяснить сновидений, пришли к тому представлению, что их мышление и ощущения есть деятельность не их тела, а какой-то особой души, обитающей в этом теле и покидающей его при смерти, – уже с этого времени они должны были задумываться об отношении этой души к внешнему миру… Совершенно подобным же образом вследствие олицетворения сил природы возникли первые боги, которые в ходе дальнейшего развития религии принимали все более и более облик внемировых сил, пока в результате процесса абстрагирования… в головах людей не возникло, наконец, из многих более или менее ограниченных и ограничивающих друг друга богов представление о едином, исключительном боге монотеистических религий.
Высший вопрос всей философии, вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе, имеет свои корни, стало быть, не в меньшей степени, чем всякая религия, в ограниченных и невежественных представлениях людей периода дикости. Но он мог быть поставлен со всей резкостью, мог приобрести все свое значение лишь после того, как население Европы пробудилось от долгой зимней спячки христианского средневековья. Вопрос об отношении мышления к бытию, о том, что является первичным: дух или природа, – этот вопрос, игравший, впрочем, большую роль и в средневековой схоластике, вопреки церкви принял более острую форму: создан ли мир богом или он существует от века?