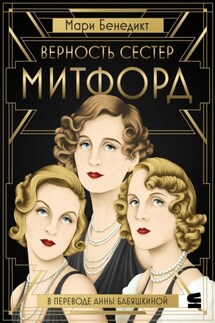Горничная Карнеги - страница 23
– Мне кажется, сэр, что секреты не самый правильный образ действий.
Его улыбка погасла, брови встревоженно приподнялись.
– Я вас расстроил, мисс. Прошу меня извинить. Я всего лишь пытался вас успокоить. Позвольте мне узаконить ваш визит в библиотеку и прочесть вам вслух что-нибудь из моего любимого поэта, несравненного Роберта Бернса? Таким образом можно будет считать, что вы пришли сюда по моей просьбе, а не по собственному почину. И вам не придется ничего говорить моей матери.
Я с облегчением кивнула, хотя идея остаться в библиотеке наедине с сыном хозяйки, который читал бы мне вслух стихи, казалась странной и несколько неуместной.
Он подошел к столу, заваленному книгами в дорогих кожаных переплетах, и выбрал из них нужную. Не глядя на оглавление, открыл томик на определенной странице и объявил, что прочтет стихотворение под названием «Честная бедность». По мере чтения его шотландский акцент становился все более заметным. Стихи показались мне смутно знакомыми. Но откуда я могла их знать? Политические лозунги, а не поэзия были языком моего воспитания. Поэзией я наслаждалась в одиночку долгими пасмурными вечерами в нашем фермерском доме в предместье Туама.
На этой строфе я наконец поняла, почему стихотворение показалось мне знакомым. Давным-давно, когда я была совсем маленькой, мой отец и его политические соратники пели песню на эти стихи на своих тайных собраниях (это был своего рода гимн, призывающий на борьбу за равенство прав и возможностей – одно из ключевых убеждений фениев), и даже сейчас он иногда напевал эту мелодию. Как только я вспомнила об отце и об угрозе благополучию нашей семьи, вызванной реакцией лорда Мартина на слухи о его былой принадлежности к Ирландскому республиканскому братству, – той самой угрозе, из-за которой я оказалась в чужой стране и теперь слушала, как незнакомый мужчина читает мне вслух стихи, – на мои глаза навернулись слезы.
Мистер Карнеги закончил читать и посмотрел на меня. Я быстро смахнула слезу со щеки, надеясь, что он ничего не заметил. Но по тому, как смягчилось его лицо, сразу стало понятно: он успел разглядеть эту несчастную слезинку.
В тишине, установившейся между нами, я услышала тихий звон колокольчика где-то в глубине дома. Быстро присев в реверансе, я без единого слова бросилась прочь. Колокольчик звонил по мою душу – меня вызывала миссис Карнеги.
Глава девятая
21 января 1864 года
Питсбург, штат Пенсильвания
– Вам письмо, – сказала мне миссис Стюарт, когда я вошла в кухню с тяжелым подносом, нагруженным посудой после полдничного чая хозяйки.
– Мне?
Я действительно удивилась. Два месяца я ждала ответа на мое письмо, которое написала домой сразу, как только поняла, что остаюсь в доме Карнеги, и теперь не могла в это поверить. Корреспонденция приходила ежедневно, но для других слуг. Для меня – ничего. Мои чувства раскачивались, как взбесившийся маятник, между тревогой за близких и облегчением оттого, что никто не разыскивает настоящую Клару Келли.
– Даже два. – Лицо миссис Стюарт оставалось таким же унылым и скорбным, как всегда, несмотря на мое нарастающее волнение. Мы с ней общались мало и исключительно по рабочим вопросам, сводившимся к обсуждению пожеланий хозяйки относительно обеденного меню, просьбам о покупке новых швейных принадлежностей и передаваемых через меня замечаний о недостатках в уборке дома. Таким образом, наши с ней отношения были чисто утилитарными. Миссис Стюарт, как и вся остальная прислуга, считала меня приближенной хозяйки и, следовательно, не принадлежащей к их компании. Поэтому все они держались настороженно и сохраняли безопасную дистанцию.