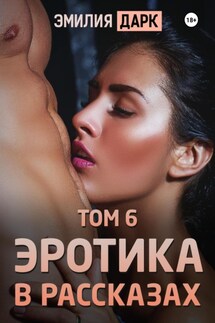Город уходит в тень - страница 16
А тут еще на оставшиеся тополя напала какая-то гадость. Летучие тараканы. Мало того, что самого мерзкого вида, так еще и пищали. Сидишь вечером на балконе – плюх. Потом еще – плюх! Подбирай их… Вот они тополя и дожрали. После чего их вроде бы запретили сажать.
Так что на Малясова тополей почти не осталось. Дубы были. На противоположной стороне. В конце второго квартала.
Улица наша была тихая… нет, не так, наша и прилегающие: Ширшова, Кренкеля, Обсерваторская, Финкельштейна. Очень редко, если кто пройдет. Да и машин почти не было. До сих пор так: ни людей, ни машин.
Дождалась я автобуса, упертая ишачиха. Через три минуты уже вылезла у той акации, что на углу росла. Которой уже тоже нет.
А сейчас, сто лет спустя, сижу и думаю: и на кой? Лучше бы лишний раз прошла по знакомой-знакомой улице.
Всего-то – завернуть за угол. Вдоль здания фирмы «Юлдуз». Мимо большого коммунального двора. Там еще Лена жила. Учитель английского. Красивая очень, с рыжеватым от веснушек лицом. Все боялась, что замуж никак не выйдет. Вышла потом…
Мимо общежития фирмы. Мимо большого пустыря, где росли высокие кусты сиреневых гибисков. Поперек пустыря – еще один коммунальный двор, где жила моя одноклассница Наташа. Мимо длинного глиняного дувала до еще одного коммунального, населенного евреями двора, где мама покупала мацу. Мимо дома двух странных особ, мужья которых сидели. А они тоже сидели. Часами. У калитки. И провожали взглядом каждого, кто проходил по улице. Мимо дома, где жил мой друг Валя. Напротив его дома была колонка, не кран, а именно колонка. И росли уцелевшие тополя. Толстые. На одном было вырезано имя Асрор и дата. Асрор Мухтаров. Жил напротив нас. Надпись глубоко ушла в ствол и обросла по краям слоями коры.
Мимо дома, где очень замкнуто жил татарин с русской женой. Перейти узкую улочку Кренкеля.
И я на углу дома.
Нужно же было быть такой ворчливой каргой, чтобы каждый день сетовать на необходимость тащиться от Кренкеля аж до Дархан-арыка. Всего-то до Обсерваторской. Мимо дома, где жила тетя Галя Петросянц, правда, не углового. Мимо Малясова, 24: Вика, Игорь, Люся… Мимо дома Генки, где мы часто сидели на низком крыльце. Мимо незнакомых калиток. На мостик через Ак-Курганский, ныне исчезнувший канал. Мимо длиннющего забора. Мимо крошечного квартала, где на углу жил парень, который при встречах не сводил с меня глаз. И все. Там через улицу и в большой проектный институт Узгипро… что-то. Каждый день туда-обратно…
И до ОДО пешком. И до Сквера пешком. И обратно пешком. Всюду пешком…
Ну почему, почему мне было так лень пройти лишний квартал? Почему я все искала, как бы проехать хоть на чем-то?
Почему я так ленилась лишний раз пройти по любимой улице, любимому городу? Прости ты меня, город, которого нет, но на вытертом до камешков асфальте которого остались мои следы. Прости меня, Сквер, которого больше нет и не будет, но где-то на уничтоженных аллеях которого остались мои следы. Прости ты меня, улица, за то, что бросила тебя на целых 30 лет, а ведь еще в 2000 году муж, приезжавший хоронить мать, за день обошел пешком весь центр и, довольный-счастливый, рассказывал, что ничего, ничегошеньки, слава богу, не изменилось, а я, наивная, тогда еще подумала: «А что должно было измениться?»
«Простить» и «проститься» – однокоренные слова? Проститься навеки с тем, что столько лет было твоим, – это очень больно. Проститься навеки с тем, что ты считал незыблемым, – очень больно. Проститься навеки с тем, что считалось твоей родиной, – очень больно.