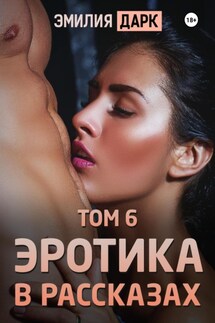Город уходит в тень - страница 14
КВН с линзой. «Рекорды». «Рубины». Черно-белые. Цветные. Ламповые. На микросхемах. Плоские. Плазменные панели…
Когда-то мне делали полостную операцию. После которой я ходила согнувшись и держалась за стену. Шрам от бедра до бедра. Через 10 лет мне делали еще одну операцию. Лапароскопия. Пять даже не шрамиков, а полосок. На второй день я встала и пошла. Теперь, говорят, стенты в сердце ставят, и вообще без общего наркоза. Через бедренную артерию…
И так далее, и тому подобное. Все это за прожитые мной 75 лет.
Это я к чему? Это я к тому, что, может быть, очень может быть, надеюсь, что вдруг Уэллс окажется прав и когда-нибудь изобретут и машину времени.
В конце концов, во времена Леонардо никто не верил, что летательные аппараты могут стать реальностью, верно? А во времена Жюля Верна считали, что подводная лодка – это исключительно фантазия автора. И продолжают же изобретать вечные двигатели, значит, надежда не потеряна.
Вряд ли я доживу, но при таком молниеносном развитии науки – а вдруг?
И тогда я приду к изобретателю и слезно взмолюсь: мол, я совсем дряхлая и старая и пусти ты меня, сыночек, без очереди. Пока я еще на ногах держусь.
И отправит он меня туда. Куда я все время рвусь. Нет, не в этот чужой город, где уничтожают все, что когда-то казалось незыблемым. Не в этот чужой город, где стоят чужие дома и правят инопланетяне. Не в этот чужой город, где люди еще остались прежними, родными, добрыми, гостеприимными, но их становится все меньше. Теперь они разбросаны по всему свету. Я одного даже в Танзании нашла. И что ташкентцу делать в Танзании?
Отправит он меня туда, где все еще живы. Родные живы. Мама. Папа. Сестра. Друзья живы. Леня. Саша. Олег. Аня. Адиба. Алик. Дина.
Где я совсем маленькая. Где растет живая изгородь. Где на Алайском кипит бурная деятельность. Где Энгельса – Энгельса. Где Урицкого и Малясова – Урицкого и Малясова. Где в тени родного Сквера стоят скамейки и дети едят мороженое из металлических креманок… Где мавританский магазинчик стоит и ничего ему не делается. Где сворачивают к курантам троллейбусы. Где на улицах цветут розы и канны с почти черными листьями. Где можно шлепать босиком по теплой пыли. Где подпрыгнешь – и вот тебе акация, и ты набираешь в горсть цветов и жуешь. И жалеешь, что маклюру, при всей ее красе, есть нельзя. Где у летнего кинотеатра продают соленые и сладкие косточки. Где осенью жгут костры из листьев и горьковатый дым стелется по улицам. Где цветут на крышах и дувалах красные маки. Где все просто, понятно и светит солнышко. Где нет алчных завоевателей. Где еще журчат арыки. Где на улице пахнет сладкой карамелью.
Туда, где счастье.
Хоть на день. На один день. Я успею обежать весь центр.
И можно спокойно умирать.
ПРОСТИТЬ… ПРОСТИТЬСЯ
Вроде почти одинаковые слова. По крайней мере смысл одинаков. С оттенком обреченности.
Есть у меня теория не теория, но убежденность. Моя собственная. Заключается в том, что в каждом городе, в каждом месте, где ты был и ходил, земля, или асфальт, или брусчатка, или песок – все равно – хранит твои давно стершиеся следы. Что-то вроде нематериального свидетельства присутствия. Ты давно уехал, ты больше никогда там не был, ты умер… следы остались. Для меня почему-то такая мысль служит большим утешением.
Если моя теория верна, в чем я сомневаюсь, но все же… больше всего моих следов отыщется в Ташкенте. Сначала крошечные, потом побольше, потом…