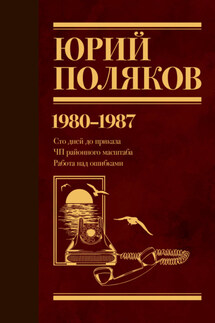Города и годы - страница 28
ГОЛОВА ЗНАМЕНИТОГО УБИЙЦЫ
КАРЛА ЭБЕРСОКСА
(ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ
В НЮРНБЕРГЕ)
– Мой отец присутствовал при этой казни, – начал сторож, отставив одну ногу, – и если господа желают…
– Послушай, – вдруг проговорил Андрей, – на кой черт, собственно, мы все это смотрим?
Курт вскинул голову.
– Это знаменитый музей.
– Я приехал сюда на карусели, а не к покойникам.
– Мы успеем и на карусели. Но этот музей…
– К черту музей, к черту Карла Эберсокса, я хочу на воздух, на солнце!
В Эрлангене много воздуху.
Вдыхать его, сидя на балконе с трубкой в зубах и за чашкой кофе, – наслажденье, каким может похвастаться только маленький городок.
За полдень, когда ясно обозначится покойная теневая сторона главной улицы и когда в каждом окне повиснут коврики, подушки и перины, на эрлангенских балконах в покатых креслах полулежат студенты.
Из университетского сада плывут легкие ароматы цветущих деревьев, снизу, от шумливой, верткой речонки тянет холодком и влагой. Небо поднялось бесконечно высоко, и городку легко, приятно и удобно. Дороги и тротуары безлюдны.
– Ге-ге! – несется с балкона звонкий голос. – Ге-ге! Эрих! Как поживаешь после вчерашнего казино?
– Не смейся, малыш: за ночь моя талия увеличилась на пять сантиметров…
– Ха-ха!
И вот с балкона на балкон из одного конца улицы в другой:
– Ге-ге, коллега! Что вы там ржете?
– С Эрихом хирургический случай: у него растяжение талин!
– Ха-ха!
– Корпорация Альфа против радикального вмешательства. Попробуйте бужирование.
– А что вы пропишете против легкой хрипоты?
В узких переулках от дома к дому:
– На главной улице ищут подержанные брюки: пояс – полтораста сантиметров.
– Ха-ха!
За балконами, в невысоких комнатах с занавесочками и ковриками, старательные хозяйки начищают сапожным кремом башмаки своих жильцов. В университетских лабораториях и кабинетах сторожа неторопливо полощут пробирки, реторты и колбы. В просторном зале прибирают и устанавливают в штативах рапиры, сабли, шпаги и эспадроны.
– Ге-ге, Отто! Что ты скажешь о нашем Эрихе?..
К речонке, вниз по главной улице, все еще шествовали разряженные, кружевные, декольтированные гости. Но шума не было, и струйки табачного дыма на балконах тихо взбирались по гладким стенам.
– Как мирно, как бесконечно мирно, – проговорил Курт.
Он шел с непокрытой головой, медленно, любовно оглядывая каждый уголок, точно отыскивал что-то давно утраченное и родное. Андрей молчал.
Ни одна прогулка из тех, что совершили наши друзья за годы, которые предстояли им, не была столь добровольна и бесцельна, как путешествие в Эрланген. Вот почему мы не торопимся забегать вперед и радостно идем шаг за шагом по улице, в конец города, через мост, и дальше – в гору, покрытую частой рощею. Кто знает, может быть, эта прогулка – последний отдых, полней которого – одна смерть?
Гора, увязанная – как голова платком – липовой, березовой, кленовой чащей, кружилась в живой воронке звуков. Звуки толклись на месте, метались из стороны в сторону, извивались змеями вокруг деревьев, стлались под ногами. Здесь были все инструменты, придуманные Востоком и Западом, сделанные кустарем и фабрикой, автоматические, духовые, струпные и ударные. И они свистели, бубнили, гудели, трещали, пели, вопили все сразу и ни на минуту не переставая. Все оперетки и оперы, мазурки и вальсы, марши и галопы, сочиненные когда-нибудь на свете, не считая торжественных ораторий, печальных кантат, рапсодий, менуэтов, полонезов и песен, – все эти классы, виды и роды музыкальных сочинений, во всех тонах и всех темпах известных животному миру и органным фабрикам, – все они с величайшим старанием и неправдоподобным фортиссимо пыжились заявить о себе здесь, на этой горе, покрытой, как платком, липовой, кленовой чащей.