Гость. Туда и обратно - страница 33
Заправившись, мы отправились туда, куда все, – к Гранд-Каньону. Политически корректные гиды объясняют его происхождение двояко. Геологи утверждают, что полуторакилометровую пропасть миллионы лет рыла река Колорадо. Те, кто, как это водится в Америке, не верят в эволюцию, считают Каньон последствием библейского потопа.
Вторая версия мне нравится больше. Глядя с обрыва, понимаешь, откуда берется религия. У каждой обветрившейся скалы есть свое название, сравнивающее гору то с христианским, то с буддийским, то с языческим храмом. Но стоит опуститься солнцу, и каньон становится безымянным, как дао.
На заходе разноцветные утесы устраивают оптическую пляску. Обманывая зрение, смеясь над перспективой, они неслышно передвигаются, отменяя пространство, не говоря уже о времени. Каньон живет закатами и рассветами, старея на глазах одного Бога, в которого здесь легче верить: у такого зрелища должен быть автор.
Я убедился в этом тем же вечером, когда включил телевизор в мотеле. Молодой проповедник объяснял восторженной пастве, что каждый верующий разбогатеет, как Христос, который три года кормил апостолов, включая Иуду. Логика была на его стороне, но, не доверяя ни церкви, ни экономике, я остался при своих невыгодных заблуждениях. Может, и зря: 66-я вела в Лас-Вегас.
Вермонт!
Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Когда-то здесь жил недостижимый, как Грааль, Солженицын, но и без него Вермонт – форпост нашего языка в Новом Свете. Хотя бы потому, что каждый год в этот штат приезжают сотни молодых американцев, чтобы дать торжественную клятву все лето говорить только по-русски. Так лучшая в Западном полушарии языковая школа колледжа Миддлбери прививает своим питомцам навыки лингвистического выживания. Их швыряют в воду, включая тех, кто совсем не умеет плавать.
– Как дела? – щебечут одни новички.
– Хорьошо, – отвечают другие.
А потом, исчерпав запас, молча улыбаются друг другу. Через неделю-другую, однако, русский язык пробивает себе путь, и беседа приобретает более осмысленные семантические очертания – как в разговорнике.
– Как дела? Ты любишь кашу?
– Каша – для Маши, я люблю Чехова.
Профессорам, особенно из отечества, труднее. Ведь они тоже поклялись ограничиться родным языком, обходясь без костылей английского.
Здесь это запрещено, и все говорят, словно персонажи Тургенева, только короче и веселее. Тотальное погружение в языковую среду распространяется на все сферы жизни – в классе и столовой, за флиртом и пивом, даже в сортире с русскими инструкциями. Раньше, впрочем, было еще хуже. Посетив Миддлбери в первый раз, я решил, что у кампуса болезнь Альцгеймера. На стене висела табличка «СТЕНА», на окне – «ОКНО», под ним – «ПОДОКОННИК». Идя по коридору, я избегал резких движений, чтобы не приняли за психа. Теперь, однако, по настоянию пожарных надписи сняли отовсюду, кроме щита с объявлениями: сусальные фантики «Аленка» и замусоленные от частого пользования правила распития спиртных, включая игристые, напитков.
Я не был здесь десять лет и сразу заметил перемены к лучшему. Числом учеников русская школа затмила и китайскую, и арабскую.
– Что вы хотите, – в ответ на комплимент объяснили мне профессора, – стоит Путину открыть рот, как у нас прибавляется пять студентов. Прилив начался с Грузинской войны и становится сильнее с каждым, мягко говоря, экстравагантным законом и судебным, так сказать, процессом.
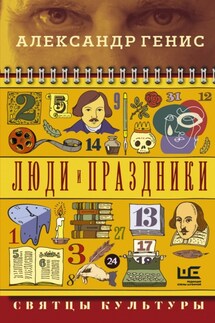

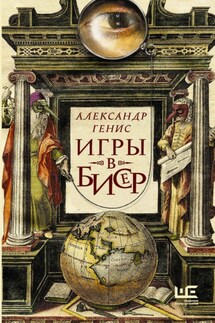


![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



