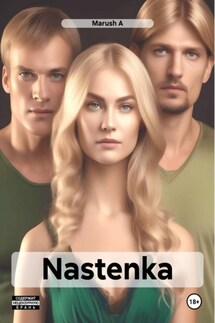Государева крестница - страница 32
– Ой, да мне почем знать! – в сердцах отозвалась Настя, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. – Ликом, значит, светлая – что ясный месяц. Ты хоть спросила, когда ждут-то?
– То арапу неведомо. Говорит, может, его татары в полон угнали.
– Да чтоб у него, поганого, язык отсох! – закричала Настя. – Чтоб его перекрутило да скрючило! А ты, бессердечная, посовестилась бы такое мне пересказывать!
Матреша устыдилась, заплакала в голос.
– Ладно, не реви, чего уж теперь… – Настя подошла к скрыне и, подняв крышку, порылась в одном из ящичков, достала алую шелковую ленту: – На вот тебе, глянь. Как раз в косу будет – нукось возьми зеркальце…
Пока переплетала Матреше косу, часто смаргивая слезы и пошмыгивая носом, немного успокоилась – принудила себя откинуть страхи. Молится ведь каждый день, не может того быть, чтобы Пречистая не услышала, не оберегла от ужасов в ночи, от стрелы, летящей днем, от язвы, ходящей во мраке, от заразы опустошающей…
За ужином Настя не утерпела, спросила отца, не слыхал ли, когда должны вернуться стрельцы, посланные провожать гонца в Крым.
– Как проводят, докудова велено, так и вернутся, – ответил он и добавил бесчувственно: – Да
тебе-то какая в том забота?
– Вот такая! – крикнула Настя. – Кому ж еще иному – не тебе, вестимо! Тебе что – пропал человек, и ладно!
Отец уставился на нее изумленно, держа в одной руке нож, а в другой – баранью кость, с которой состругивал мясо.
– Онуфревна, она, што ль, не в себе? Ты б ее на ночь с уголька-то сбрызнула – слыхал, помогает. Ох, Настасья…
Кой к черту уголек, подумал он, замуж бы ее поскорее, тут угольком не отделаешься…
– Да что «Настасья», что «Настасья»! Может, его там псоглавцы заели аль татарва угнала в полон, а вам все едино!
– Нет, ну истинно очумела девка. Каки еще псоглавцы, окстись…
– Обыкновенные! Про коих сказывал странник, что в Киев на богомолье ходил.
– Да что он про них сказывал?
– Вот то и сказывал! Телом, говорит, мохнаты и смрадны, голова же песья.
– Пустое болтал. То ему, мыслю, спьяну причудилось. Покуда до Киева-то добрел, так, верно, ни одного шинка по пути не миновал.
– Старец-то богомольный был, Михалыч, – возмутилась Онуфревна, – а ты его этак хулишь при дочери!
Никита только рукой махнул, выбираясь из-за стола. Свяжись с этими бабами – сам сдуреешь…
Каждое утро, проснувшись, Настя припоминала, что снилось. В сны она верила, знала, что бывают вещие – кои к худу, кои к добру, а иные и вовсе не понять. Досаднее всего было, если сон забывался, лишь едва брезжило что-то, словно сквозь туман поутру, и это что-то вроде было добрым, а не припомнить толком. Худой сон забудется – то и ладно, значит, и сбываться нечему; а вот ежели сон к добру, то его надо весь удержать в памяти, сколь можно подробнее.
Днем она за делами отвлекалась от сосущей тревоги, благо дел было много: отец строго наказывал мамке, чтобы праздно Насте не сидеть, не предаваться мечтаниям. Да она и сама не любила праздности, чего уж тут хорошего? Так и лезет в голову разное. А работа в ее руках спорилась – тесто ли месить вместе со стряпухой в те дни, когда хлебы пекут, рубить ли капусту для засола, грядки ли полоть и коромыслом носить от колодезя воду для поливки – все ей давалось легко и ладно, будто играючи. Что было в тягость, так это шитье, вышивание разное: больно уж кропотливо. А боярские девы, отец говорит, только и знают работы, что вышивать, да еще сидя взаперти по теремам. Не приведи Господь! Настя со страхом представляла себе горькую участь боярских дев.